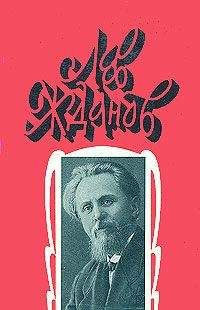— Все они должны поплатиться за свое идольское мучительство над христианами! Гибель поганым!
Снова поднялись руки, сверкнули ножи.
— Помилуй! Защити! Клевета! Мы не проливали крови. Нет у нас такого закона!
— Спаси невинного ребенка моего! Кровью твоего Спасителя заклинаю! — обезумев, молила мать, охватывая колени Феофила.
— Постой… не мешай! — оттолкнул ее патриарх. — Я скажу…
Нападающие остановились. Тысячная толпа кругом замерла, ожидая, что скажет глава церкви.
Громко, внятно прозвучал надо всеми голос вождя духовного:
— Не знаю… для нынешнего праздника, может, и не нужна язычникам кровь невинной жертвы. Быть может, правду говорит эта женщина. Нет у них в законе повелений для человеческих жертв… поскольку этот закон открыт для народа. Но вот что я сам слышал от верховного жреца Сирапеума. Есть у них тайная жертва… нужна жрецам кровь невинная для их чар. Чарами теми слепят они очи, туманят души людям… привлекают их на поклонение идолам! Вот, кладу я руку на изображение Господа моего, ныне воскресшего, в истине слов моих. И пусть он так же пошлет мне спасение, как правду я сказал. Вы, несчастные, отойдите. Не мешайте нам! Да свершится воля Божия.
Феофил умолк. От напряжения силы покинули его, волнение сломило этого неукротимого человека. Поспешно открыл он заветный флакон, висящий на груди, каплей чудотворной влаги оросил язык — и сразу ожил, воскрес на глазах у всех, а не так, как его «спаситель», нарисованный на белоснежной плащанице, украшенной по краям золотыми шнурами и жемчугом.
Еще не смолкли последние слова патриарха, как яростные крики толпы слились в какой-то протяжный вой.
— Гибель людоедам! Смерть язычникам! Бей их!
Лежа на земле, втянув голову в плечи, закрыв ее руками, омертвелые, лежали избитые люди, видя, что гибель неизбежна. Ждать им пришлось не долго. Процессия тронулась вперед, а их схватили сотни рук… бросили в водоворот людской толпы… и через две-три минуты куски тел остались на земле, а озверелая толпа кинулась по улицам с громкими криками:
— К Брухиону! В квартал язычников! К Сирапеуму! Там наших режут на куски, заживо… Разрушим идольское капище! С землею сровняем его!
И потоками кинулись люди… Фиваидские изуверы-отшельники — впереди. А Феофил в светлых, сверкающих ризах, только кой-где пурпурных от брызнувшей крови, заканчивал шествие с плащаницей вокруг храма «Бога любви и милосердия», сын которого, по словам иереев, принесен в жертву отцом за грехи темных людей.
Под неудержимым натиском стотысячной толпы христиан, предводимых фиваидскими пустынниками, — египетские аскеты из Абидоса, окруженные двадцатитысячной толпой язычников, отбиваясь, как могли, отступили постепенно, сперва из садов к наружным дворам храма, окруженным высокими стенами. Но христиане лились, валились лавиною, перекидывались через стены, влезая, вместо лестниц, друг на друга.
И только когда язычники укрылись во внутренних дворах, с очень высокими, крепостными стенами, с тяжелыми воротами, с бойницами и заняли места у этих бойниц, сталкивая нападающих, обливая их кипятком, бросая в гущу врагов большие глиняные горшки с пылающим греческим огнем, — тогда только могли передохнуть преследуемые.
А христиане, оставив под стенами груды тел ошпаренных, обожженных, ушибленных камнями, падающими сверху, — отошли подальше и стали совещаться: как быть теперь?
Падающие с высоты глиняные сосуды с горючим составом разлетались на куски, и эти черепки, наполненные ярко пылающим, дымным огнем, багровым светом озаряли все кругом.
— Близко утро! — крикнул один из коноводов, плотный нубиец-отшельник, бывший и вблизи христианского собора вожаком озверелой толпы. — Тесным кольцом надо оцепить капище и дворы его. Чтобы ни один язычник не мог улизнуть. А я и другие братья пойдем просить помощи у патриарха, у наместника. Воины все почти христиане. Они явятся с машинами, с камнеметами. В мгновение ока мы ворвемся туда. И уж тогда не будет никому пощады!
— А сколько там золота, серебра, шелков! Сколько припасов у проклятых! — злобно прозвучали кругом голоса.
— Мы голодаем, а язычники блаженствуют! Теперь сквитаемся за все!
— Работу отбивают, проклятые! Им чары помогают! Они — искуснее нас! А мы дохнем с голоду! Вон всех мастеров-язычников из Александрии!
— И менял… И торговцев… Всех долой!
Говор, гам и отдельные выклики неслись со всех сторон. Спящие в гнездах птицы в испуге метались над деревьями сада, кидались, слепые во тьме, во все стороны, налетали на догорающие языки греческого огня и падали с опаленными крыльями. Запах жареного мяса наполнял воздух.
Дети и подростки, набежавшие с толпою, обитатели площадей и улиц, живущие дома впроголодь, набросились на даровое угощение, с кожей срывая опаленные перья, пожирая полусырое мясо дроздов и других птиц, которые днем так весело оглашали трелями заросли старого, векового парка.
Совы, покружившись над гудящим парком Сирапеума, замахали быстрее крыльями и потянули далеко, на восток, к дельте Нила…
Низко висел еще багровый солнечный диск над дельтою Нила, когда наместник, во главе сильного отряда, с катапультами, с одной небольшой баллистою, подъехал к главным воротам огромного первого внутреннего двора, где, за вторым внутренним двором, темнели стены Сирапеума и окружающих его храмовых построек.
На шум и говор подходящего отряда ожила стена с бойницами, окружающая двор. Служители храма, жрецы, отшельники из развалин Абидоса, самые молодые и сильные, с секирами, копьями, с большими горшками, в которых тлели фитили, появились на гребне стен.
— Что угодно высокочтимому наместнику кесаря-августа, блаженнейшего Феодосия, в такую раннюю поpy? — крикнул со стены пожилой жрец, один из главных в Сирапеуме.
— Немедленно открой ворота. Я должен огласить приказ божественного августа, императора Феодосия. Ваш верховный жрец, Фтамэзис, обязан немедленно выслушать и исполнить все, что велит его блаженство кесарь.
— Ты знаешь, высокочтимый стратиг, бешеная толпа врагов, отшельников фиваидских и черни городской, осаждает храм. В городе убито много наших… Сюда, в Сирапеум, кинулся каждый, кому угрожает насилие черни и безумных монахов. За тобой, за твоими легионерами ворвутся тысячи убийц. Ворот мы не откроем и никого не пустим, пока ты не велишь толпам разойтись… пока их не разгонишь. А сейчас прошу мне сказать, о чем говорит декрет кесаря. Мы исполним это.
— Вы нарушаете все декреты! Торжественно в своем капище творите обряды, приносите жертвы. А это давно запрещено!
— Там, в Ромэйском царстве, где очень мало людей, чтущих древних богов, я знаю, там это запрещено. Но здесь? Иудеи, их не больше 200 тысяч. Они строят свои храмы, молятся в них. А нас — вдвое больше! Неужели мы не смеем?
— Да. Конец вашим нечестивым сборищам! Этот храм будет отдан под христианскую церковь. И вы даже в своих жилищах не смеете поклоняться идолам. Такова воля кесаря, равная воле самого Бога.
— Тогда нам не о чем говорить. Только силой войдешь ты в священные пределы Сирапеума. Говорю тебе, стратиг, не мои слова. Так решил весь синклит наших старейшин и жрецов, служителей всемогущего Сираписа. Смертью и гибелью грозят нам приказы милостивейшего августа. Так мы умрем в борьбе, сражаясь, а не позорно, на крестах и в пытке, как умер ваш мнимый бог. Я сказал…
Жрец скрылся. Погрозив рукою, пробормотав проклятие, отъехал префект, дав знак начальнику Александрийского гарнизона, клиссурарху Клитию.
По команде Клития зазвучали рожки и трубы, засвистали флейты сигнал наступления. Тронулся с места осадный таран на тяжелых колесах, который только что медленно докатился до ворот, влекомый двумя десятками быков. Подняв над головою тяжелые щиты, македонским строем двинулся к воротам и к стене первый отряд воинов.
Загудела тетива катапульты. Заскрипели снасти баллисты. Первые дротики и камни, выпущенные из этих машин, просвистали в воздухе над стеною, не задев никого…
Древний воинственный клич пронесся по рядам защитников. Тучей оттуда понеслись стрелы из длинных луков, старинного оружия этой земли, опасного не меньше, чем дротик метательной машины и камень баллисты. Целые гранитные глыбы посыпались на воинов Клития, подошедших к самой стене под прикрытием щитов. Щиты и каски дробились вместе с черепами. Люди падали.
Глиняные сосуды с пылающим греческим огнем остановили наступление новых колонн, падая сверху, разбиваясь в гуще людей, обжигая их до самых костей языками дымного пламени, которое нельзя было утушить ни водою, ничем! Только толстый слой песка или земли гасил это пламя.
Первый приступ оказался неудачен. Стенобитный таран, защищенный со всех сторон тройною кожаной обшивкою, успел подкатиться к воротам и раз пять уже ударил по ним, но и он был подожжен потоками греческого огня, и его пришлось скорее оттащить, чтобы громоздкая, дорого стоящая машина не сгорела дотла со всеми, кто в ней сидел.