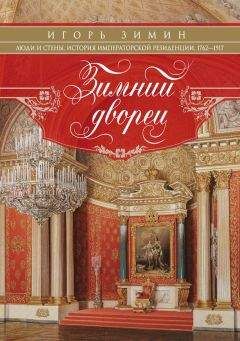Екатерина II искренне верила в то, что ей действительно удалось добиться благоденствия если не всех, то по крайней мере большинства ее подданных. Россия при ней стала как никогда сильной и могущественной, а новые законы должны были обеспечить всеобщее процветание. Историки назвали ее царствование временем «просвещенного абсолютизма». Так же называют правление ее современников — Фридриха II в Пруссии, Иосифа II в Австрии и некоторых других. Но со временем в правильности такого определения стало возникать все больше сомнений. С одной стороны, некоторые полагают, что оно применимо не только к Екатерине, но и к некоторым из ее предшественников и преемников. Напротив, другие не уверены в том, что политический строй России этого времени вообще можно называть абсолютизмом. Но не в названии дело. Гораздо важнее понять, чем было это время в русской истории. Между тем мнения и современников и потомков на этот счет разошлись, и разошлись подчас самым радикальным образом.
Наиболее известным критиком Екатерины из числа ее современников был, конечно, знаменитый историк князь Михаил Михайлович Щербатов. Человек образованный и талантливый, он, как и многие его сверстники, прошел увлечение философами-просветителями и масонством, но с идеями социального равенства, проповедовавшимися и теми и другими, примирить свой дух гордого аристократа, убежденного в полезности крепостничества, ему не удалось. За поисками идеала он обратился к далекому прошлому России, как ему показалось, нашел его и невольно стал сравнивать с тем, что видел перед своими глазами. Сравнение оказалось не в пользу великой императрицы. К тому же примешалось и уязвленное самолюбие человека, полагавшего, что по уму и рождению он достоин быть одним из первых лиц государства, но свое место видел занятым людьми случайными, то есть попавшими на него благодаря случаю. И вот уже язвительный язык Щербатова бичует екатерининский двор за непомерную роскошь, погоня за которой ведет, по его мнению, к падению нравов. «Мораль ее, — обвинял Екатерину Щербатов, — стоит на основании новых философов, то есть не утвержденная на твердом камени закона Божия, и потому как на колеблющихся свецких главностях есть основана, с ними обще колебанию подвержена. Напротив же того, ее пороки суть: любострастна и совсем вверяющаяся своим любимцам, исполнена пышности во всех вещах, самолюбива до бесконечности, и не могущая себя принудить к таким делам, которые ей могут скуку наводить, принимая все на себя, не имеет попечения о исполнении и, наконец, толь переменчива, что редко и один месяц одинакая у ней система в рассуждении правления бывает».
Если Щербатов был по убеждениям консерватором и нравственные идеалы пытался отыскать в допетровской Руси, то среди дворянской молодежи было немало и таких, кто, читая те же книги, что и Екатерина, сделал из них совсем иные, радикальные выводы. «Кто бы мог быть столько безчувствен, когда отечество от того страждет, чтоб смотреть с холодною кровью? — вопрошал в письме к приятелю детских игр Павла Петровича князю А. Б. Куракину полковник и флигель-адъютант П. А. Бибиков. — Было бы сие очень смешно, но по нещастию сердце разрывается и видно во всей своей черноте нещастное положение всех, сколько ни на есть добромыслящих и имеющих еще в душе силу действующую… Признаюсь вам, как человеку, которому всегда открывал свое сердце, что потребна мне вся моя филозофия, дабы не бросить все к черту и итти домой садить капусту…» Другой, также не видевший ничего отрадного в современной ему действительности, вольнодумец, ярославский помещик И. М. Опочинин, решившись покончить с собой, в предсмертной записке писал, что «самое отвращение к нашей русской жизни есть то самое побуждение, принудившее меня решить самовольно мою судьбу».
Но была и иная точка зрения. Великий поэт Державин восславил Екатерину в своих знаменитых одах:
Слух идет о твоих поступках,
Что ты нимало не горда;
Любезна и в делах и в шутках,
Приятна в дружбе и тверда;
Что ты в напастях равнодушна,
А в славе таквеликодушна,
Что отреклась и мудрой слыть.
Еще же говорят неложно,
Что будто завсегда возможно
Тебе и правду говорить.
Стремятся слез приятных реки
Из глубины души моей.
О! Коль счастливы человеки
Там должны быть судьбой своей,
Где ангел кроткий, ангел мирной,
Сокрытый в светлости порфирной,
С небес ниспослан скиптр носить!
Там можно пошептать в беседах
И, казни не боясь, в обедах
За здравие царей не пить.
Неслыханное также дело,
Достойное тебя одной,
Что будто ты народу смело
О всем и въявь и под рукой,
И знать и мыслить позволяешь,
И о себе не запрещаешь
И быль и небыль говорить;
Что будто самым крокодилам,
Твоих всех милостей зоилам,
Всегда склоняешься простить.
Там с именем Фелицы можно
В строке описку поскоблить
Или портрет неосторожно
Ее на землю уронить.
Там свадеб шутовских не парят,
В ледовых банях их не жарят,
Не щелкают в усы вельмож;
Князья наседками не клохчут,
Любимы въявь им не хохочут,
И сажей не марают рож.
Другой поэт на страницах журнала «Всякая всячина» сформулировал мысль, которую потом на многие лады повторяли многие: «Петр россам дал тела, Екатерина — души».
Прошло совсем немного времени после смерти Екатерины, и в павловскую пору, когда жизнь и судьба человека вновь стали зависеть от смены настроения государя, недовольство по поводу тех или иных поступков или, наоборот, бездействия его матушки стало забываться и довольно быстро возник миф о екатерининском времени как о «золотом веке». Править «по закону и по сердцу бабки нашей» поклялся, взойдя в 1801 г. на престол, ее любимец Александр I. Что это означало практически, он представлял себе, видимо, не слишком ясно и уже вскоре столкнулся с теми же препятствиями, на которые натыкалась и его предшественница. Но при нем еще больше стало тех, кто был разочарован медлительностью и умеренностью реформ и кто с юношеским максимализмом готов был перечеркнуть все наследие предшествующих десятилетий.
Таков был и юный Пушкин с его «Тартюфом в юбке и короне». «Царствование Екатерины II, — полагал он, — имело новое и сильное влияние на политическое и нравственное состояние России. Возведенная на престол заговором нескольких мятежников, она обогатила их за счет народа и унизила беспокойное наше дворянство. Если царствовать — значит знать слабость души человеческой и ею пользоваться, то в сем отношении Екатерина заслуживает удивления потомства. Ее великолепие ослепляло, приветливость привлекала, щедроты привязывали. Самое сластолюбие сей хитрой женщины утверждало ее владычество. Производя слабый ропот в народе, привыкшем уважать пороки своих властителей, оно возбуждало гнусное соревнование в высших состояниях, ибо не нужно было ни ума, ни заслуг, ни талантов для достижения второго места в государстве… Униженная Швеция и уничтоженная Польша — вот великие права Екатерины на благодарность русского народа. Но со временем история оценит влияние ее царствования на нравы, откроет жестокую деятельность ее деспотизма под личиной кротости и терпимости, народ, угнетенный наместниками, казну, расхищенную любовниками, покажет важные ошибки ее в политической экономии, ничтожность в законодательстве, отвратительное фиглярство в сношениях с философами ее столетия — и тогда голос обольщенного Вольтера не избавит ее славной памяти от проклятия России».
Эти строки были написаны Пушкиным в 1822 г., а несколько ранее другой замечательный русский мыслитель — Н. М. Карамзин, обращаясь к императору Александру, писал совсем иное: «Екатерина II была истинною преемницею величия Петрова и второю образовательницею новой России. Главное дело сей незабвенной монархини состоит в том, что ею смягчилось самодержавие, не утратив силы своей. Она ласкала так называемых философов XVIII века и пленялась характером древних республиканцев, но хотела повелевать как земной Бог — и повелевала. Петр, насильствуя обычаи народные, имел нужду в средствах жестоких — Екатерина могла обойтись без оных, к удовольствию своего нежного сердца: ибо не требовала от россиян ничего противного их совести и гражданским навыкам, стараясь единственно возвеличить данное ей Небом Отечество или славу свою — победами, законодательством, просвещением».
Спустя годы и Пушкин, всерьез занявшийся изучением истории XVIII столетия и ужаснувшийся «бунту беесмысленному и беспощадному», по-видимому, переменил свое мнение, и на страницах его «Капитанской дочки» перед читателем предстает уже совсем иная Екатерина — мудрая и справедливая императрица. Друг же Пушкина П. Я. Чаадаев, самый мрачный критик исторического прошлого России, полагал, что «излишне говорить о царствовании Екатерины II, носившем столь национальный характер, что, может быть, еще никогда ни один народ не отождествлялся до такой степени со своим правительством, как русский народ в эти годы побед и благоденствия». Удивительно, но в подобной оценке сходились люди самых разных убеждений. Так, декабрист А. А. Бестужев считал, что «заслуги Екатерины для просвещения отечества неисчислимы», а славянофил А. С. Хомяков, сравнивая екатерининскую и александровскую эпохи, делал вывод о том, что «при Екатерине Россия существовала только для России», в то время как «при Александре она делается какою-то служебною силою для Европы». «Как странна наша участь, — размышлял П. А. Вяземский. — Русский силился сделать из нас немцев; немка хотела переделать нас в русских». И он же с ностальгией вспоминал столь ненавистную Щербатову роскошь екатерининской поры: