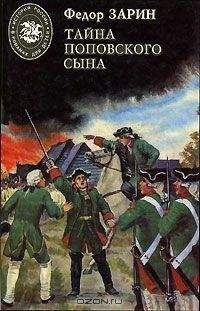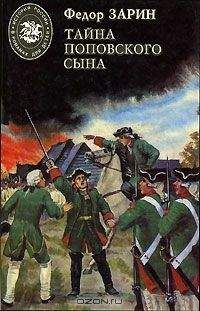— Что скажешь, а? — без особенного интереса обратилась Анна Иоанновна к Волынскому.
Волынский выпрямился, глаза его засверкали.
— Я отвечу, ваше величество, — начал он, вызывающе глядя на герцога, — что его светлость изволил сказать непонятное. Ни Черкасский, ни я не привыкли брать, не платя, чужого. Доподлинно вашему величеству известно, что ежели канцлер, князь Алексей Михайлович, да я, кабинет-министр вашего величества, пользовались милостями вашими, то брали мы не чужое, а платили за это трудами нашими и кровью своею, и не чужая нам Русь.
По лицу герцога прошла судорога.
— Князь Гагарин был русский, — звенящим голосом произнес он, — а ваш Петр на железной цепи велел повесить его.
Императрица подняла голову и с недоумением смотрела то на серо-бледное лицо герцога, то на пылающее лицо Волынского.
— Да что вы? — спросила она. — Чем считаетесь? С чего ты, герцог, дядю-то вспомнил? Грозен он был, а мы милосердны. И разве кого хочешь повесить, что ли? Ой ли, не довольно ли, герцог? В мире и благоденствии хотим мы провести дни сих торжеств, в ознаменование славных побед наших войск, от коих возликует и дух нашего дяди.
И герцог, и Волынский ясно поняли, что Анна Иоанновна не отдает себе полного отчета в том, что происходит перед ней.
— Зная милосердие вашего величества, — начал Бирон, — смертной казни подвергаются лишь злодеи, существование коих опасно для блага вашего народа.
Волынский едва сдерживался.
Видя, что императрица не понимает его, он сказал:
— Я, ваше величество, никогда не соглашусь с мнением его светлости о необходимости выдать Речи Посполитой вознаграждение за проход через ее области наших войск.
— А почему, Артемий Петрович? — спросила государыня. — Вот герцог иначе думает.
— А потому, ваше величество, — медленно начал Волынский, не спуская с Бирона горящих ненавистью глаз, — а потому, что под благословенным царствованием вашего величества мы достаточно сильны, чтобы отказать неимоверным притязаниям Речи Посполитой. А я, ваше величество, не имею ни владений в Польше, не состою и вассалом республики, и потому не имею нужды задабривать исстари враждебный России народ.
На этот раз удар был нанесен верно. Бирон, как герцог Курляндский, был вассалом Польши, кроме того, в Курляндии у него были обширные поместья, и потому у него были сильные побуждения заискивать расположения правительства республики, то есть вельмож и шляхетства.
Даже Анна поняла это и подозрительно взглянула на герцога, ожидая его ответа.
На лицо герцога страшно было смотреть.
Анна Леопольдовна в испуге выронила из рук свое вышивание.
Дура-калмычка запряталась куда-то за печь, и только Карл все еще не мог оторваться от ледяного дворца.
Но голос Бирона звучал совершенно ровно, когда он наконец сказал:
— Вашему величеству известно, что мое вмешательство в русские дела было всегда чуждо партикулярных и пристрастных целей. Я вмешивался в дела единственно для того, чтоб охранять интересы императрицы, ее спокойствие и дражайшее здоровье. Мудрая императрица рассудит меня и предложение кабинет-министра.
Видя, в каком расстройстве находился ее фаворит, императрица взволновалась сама, особенно когда к ней прижался маленький Карл, словно ища у нее защиты против этого сухого высокого человека с такими большими и злыми глазами.
Она протянула Волынскому руку.
— Мы еще рассмотрим это, — произнесла она.
Волынский поцеловал протянутую руку, низко поклонился перепуганной принцессе и, не глядя на Бирона, вышел из комнаты.
В соседней зале его догнал приятель, кабинет-секретарь Эйхлер.
— Артемий Петрович, — задыхаясь, проговорил он, — что ты сделал? Ты смертельно оскорбил герцога. Ведь он вассал Польши, он никогда не простит тебе.
Волынский остановился.
— Он не простит, — надменно проговорил Волынский, — зато она все поняла, и, я говорю тебе, мы дождемся его падения.
Эйхлер схватился за голову.
— Его падения! — воскликнул он. — Ах, Артемий Петрович! Мало тебе, что ты с обеими принцессами сдружился… Да пойми ты, несчастный человек, каковы узы императрицы с Бироном, пойми, что его детей она любит, как собственных.
— Но благо России… — начал Волынский.
Эйхлер только безнадежно махнул рукой. Несколько мгновений молчал и Волынский.
— Она детей может оставить при себе, — сказал он наконец.
— А его? — спросил Эйхлер.
— Его… — Волынский помедлил, — выслать из России.
— Выслать, — насмешливо проговорил Эйхлер, — у вас, в России, этого не водится. Твои же сторонники задушат его на первой станции. Она знает это и на это не пойдет. Берегись, Артемий Петрович!
«Надо кончать», — думал Волынский, возвращаясь домой.
«Надо кончать», — думал герцог, проходя от императрицы в свои покои.
Вернувшись домой, Волынский сейчас же послал за Лестоком и Хрущевым.
Вернувшись в свои покои, герцог сейчас же приказал заложить лошадей и поехал к цесаревне Елизавете Петровне.
Веселый и живой, никогда не унывающий француз,
Герман Лесток сейчас же прискакал на зов Волынского. Исключительным свойством Лестока была его живая энергия и способность сохранять прекрасное расположение духа во всевозможных обстоятельствах жизни.
Это был тип смелого, беззаботного авантюриста. Явившись в Россию в 1713 году, он попал в медики к Екатерине, а в 1718 году уже был сослан Петром в Казань, как видно, за участие в некоторых галантных похождениях. С воцарением Екатерины он был возвращен в столицу и назначен медиком к цесаревне Елизавете.
Цесаревна Елизавета сама была молода и нрава веселого. Присутствие галантного француза, понимающего вкус жизни и умеющего пожить, было как нельзя более кстати при маленьком дворе цесаревны, где любили танцы и веселье. Но за видимою беззаботностью в сердце француза таились грандиозные замыслы.
После смерти Петра II он ловко сплел интригу, набрал сторонников и смело предложил цесаревне овладеть престолом. Все ручалось за успех: любовь к ней народа, слухи о завещании Екатерины I, по которому, в случае бездетной смерти Петра II, престол должна наследовать Елизавета, а главное — любовь войска к дочери Петра.
Но двадцатилетняя принцесса не решилась на государственный переворот.
Лесток, видя, что никакие доводы не помогут, решил ждать следующего удобного случая. Его рассеянный образ жизни, его кутежи давали ему возможность сближаться с офицерами гвардейских полков и поддерживать в них любовь к дочери Великого Петра.
Но в то же время он не забывал и интересов своей родины. Он был искренним врагом немцев и сумел внушить те же чувства цесаревне. Под его влиянием она была убеждена, что союз с Францией неизмеримо более полезен России, чем дружба с немцами. И в этом отношении она разделяла тогда чувства народа. Потому что за последние десять лет от мала до велика все в России страдали под тяжелым гнетом Бирона и его сородичей.
Лесток, ратуя за союз с Францией, вместе с тем подготовлял и государственный переворот в пользу Елизаветы, и французский посол, маркиз де Шетарди, считая цесаревну сторонницей Франции, щедрой рукой отсыпал веселому Лестоку золотые луидоры.
Очевидно, Лестоку было выгодно поддерживать сношения с Волынским.
Он весело болтал, попивая вино с Хрущевым. Сам хозяин почти ничего не пил.
Их беседа длилась очень долго. Был уже поздний вечер, когда Лесток выехал от Волынского. Он был весел, как всегда, Хрущев был озабочен.
«Не я буду, — думал самодовольно француз, несясь в легких санках по чудной дороге вдоль Невской перспективы под ярко сиявшей морозной луной. — Не я буду, если по смерти Анны я не посажу на престол Елизавету. Vive la France! [10]" — мысленно закончил он свои размышления.
Артемий Петрович долго после его отъезда ходил по своему кабинету и вдруг вспомнил о Тредиаковском. Бешеная злоба нахлынула на него.
"Я отучу их смеяться надо мною", — злобно подумал он и изо всей силы дернул сонетку. Вбежавшему дежурному он приказал немедленно доставить пиита Тредиаковского на слоновый двор.
Там содержались слоны, которыми Артемий Петрович хотел воспользоваться для предстоящих торжеств.
Он велел заложить сани и сам поехал туда.
В доме Тредиаковского все уже спали крепким сном, когда к воротам подкатили сани. Собаки на дворе залаяли. Раздался стук в ворота. Дарья выбежала, накинув на свои плечи ветхую овчину. После долгих переговоров она впустила молодого человека. Все в доме уже пробудились в большой тревоге.
Тредиаковский, проклиная свою судьбу, напялил на себя старый халат. Варенька успела одеться, прибежал сверху еще не успевший заснуть Сеня.
Все они, испуганные, волнуемые разнообразными опасениями, собрались в столовой.