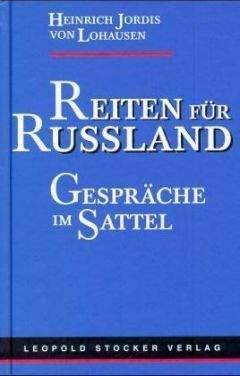Такая дальновидность предполагает в государственном деятеле, однако, еще качества подлинного рыцаря. В прежних веках что-то такое еще можно было бы требовать, во всяком случае, но в наше время? Во Франции это оказалось слишком высоким требованием к нам. Сделать это здесь лучше, для этого мы были бы призваны теперь. В противном случае, мы маршируем тут зря.
— Сверхчеловеческая политика! — сказал всадник на рыжей лошади.
— Почему нет, все же, мы стоим у начала новой эпохи. Немецкий Вермахт и добровольцы со всей Европы, к ним еще и с востока, они были бы способны на это. «Вы должны расти не вширь, а ввысь!», требует Ницше. Кто-то должен начать с этого. Тот, кто это сделает, завоюет будущее. И если кто-то тогда спросит, где там остается собственная победа, победа, все же, прежде всего, полагающаяся нам, то тот вспомнит: Победа над собой самим — всегда самая великая, и никакая другая не приносит ничего с ней сравнимого.
— И, — подхватил едущий на пегой лошади, — разве Христос требует не того же? «Вы — боги», кричит он нам, «вы могли бы совершить больше, чем я совершил. Вы только этого не знаете».
— Но достаточны ли будут наше воодушевление, наша фантазия, наша самоотверженность, — произнес офицер на рыжей лошади, — для этого? У нас есть все это в другом мире, в наших сказках, наших песнях, нашей поэзии, нашей музыке, но в политике? Там до сих пор ни у кого не было этого. Будет ли это у нас, у народа поэтов и мыслителей? Дар соблазнять других — к этому тоже относится фантазия — все же, скорее чужд нам. Возможно, наша самая благородная добродетель — наша солидность, наше усердие, готовность делать дело ради него самого — превратила нас в наилучших рабочих белой расы, но до сих пор вряд ли стимулировала хоть кого-то другого следовать нашему примеру. Люди восхищаются произведением, но не тем, кто за ним стоит. Деловитость убеждает только тогда, если вещи принимаются в расчет. Она производит впечатление, но она не очаровывает. С ее помощью можно увлечь народы не в большей степени, чем женщин. И те, и другие соблазняются качествами, которые привязывают непосредственно к личности, как грация, доброта, такт, но также и смелость. Почему мы, солдаты, всегда производим лучшее впечатление в мундире, чем в штатском платье? Чувствуем ли мы себя надежнее в форме? Увереннее, так как подчеркивает чувство долга? Сдержанность, которую она возлагает, приличествует нам больше чем определенная, к сожалению действительно часто встречающаяся, свойственная выскочкам склонность к всезнайству.
— Несомненное последствие слишком скорого подъема! — сказал скачущий в середине. — Друзей таким путем не приобретают, и мир скорее обижается за что-то в этом роде. Можно знать все лучше меня, делать лучше меня и уметь лучше меня, нельзя только давать мне заметить это. Несговорчивость лучше оставить. Это, если выставлено на показ, вряд ли принесет нам хоть что-то, зато из-за этого другие, возможно, потеряют лицо, и они никогда уже не простят это нам. На самом деле мы потеряем его и сами. Я с удовольствием научил бы нас, немцев, большей широте. Для британцев это дар их мировой империи. Кому приходится драться со всеми народами и расами земли, тому это достается как приданое.
— Тот, у кого много денег, не говорит о деньгах. Каждый английский мальчик, — заметил молодой человек на пегой лошади, — как только он попадает в одну из тех школ, которым Великобритания обязана мировой империей, прежде всего, учит: «Don’t be too brilliant» — «не старайся слишком блистать!» Отличаться, в особенности на словах — это плохой стиль, не придавать себе слишком большого внимания, уметь посмеяться над собой — вот это соответствует правильному стилю.
Впрочем, англичане обогащали королевство легкой рукой, бесцеремонно или уступчиво, как представлялся случай. Как моряки торгового флота и как пираты они разведывали мир, дальше за ними следовали только немного солдат и немного чиновников, за их спиной всегда готовый флот. Они хватали молча и избегали животной серьезности. Она тоже была бы плохим стилем.
— Ничего удивительного! — сказал всадник в центре. — Тот, кто из года в год видит тысячи приходящих и уходящих кораблей, уже долго имеет весь мир перед своими глазами и расширяет свой горизонт легче, чем другие. В большинстве случаев живущие лицом к океану народы более опытны, лучше знают мир, чем те, кто смотрят в сторону внутренней части суши. Может быть, они более прочувствованы внутри, но широта направлена наружу. Среди нас она свойственна большей частью привычным к просторам ганзейцам, но в особенности также балтийским немцам, в их случае это дар не моря, а безмерности Российской империи. Они служили царям вплоть до Сибири, были необходимы при дворе так же как в армии, в институтах и в администрации. Они уже скоро несли Россию в себе так же, как Германию и западное образование. Они пережили польское господство в Курляндии, как и шведское в Эстляндии, и остались, в конечном счете, и под русским правлением, тем не менее — не все, но почти все — теми, кем они были.
Как мы, австрийцы, они были дома во многих странах, среди всевозможных народностей, они на востоке, мы в основном на юго-востоке, в то же время издавна в Италии, в конце концов, еще и в Польше. Многовековой конфликт с турками познакомил нас с Балканами, венецианское наследие с адриатическим побережьем, его продолжение с Ближним Востоком. К этому добавилась империя, родственная связь династии с Испанией и с вечным противником Францией. К ганзейцам как третьим мир, напротив, приходил через Северное море. Так эти три вида немцев окружали империю с окраин, внутренняя часть которой стала землей поэтов и мыслителей, завоевывавших своей душой мир, и больше чем другие они были склонны, «искать душой» не только страну греков, но весь мир.
Но широта требует горизонта, такта и стиля. Тот, у кого есть стиль, умеет избегать ему не соответствующее. Только соответствующее нам создает нам уважение, не чужое. Это как у женщин: глупая носит то, что носят другие, умная то, что ей к лицу, и, возможно, только ей одной; то, что подчеркивает как раз ее особенность, ее цвет кожи, ее расу, ее фигуру. Она подчеркивает себя, такой, какая она есть, подчеркивает свойственное ей. Она возвышает это всеми средствами и оставляет то, что, возможно, очень хорошо подходит другим, но не ей. Индианка не отказывается от своего сари, японка от ее кимоно.
У иностранцев нужно перенимать только одно: их искусство быть самими собой. Мы никогда не станем актерами даже в духе итальянцев, и если мы хотим найти себя, тогда беззвучным, незаметным, соответствующим нам способом. Поднимать шум — это только выдает неуверенность. Быть больше, чем казаться, девиз прусского генерального штаба — для нас нет ничего лучшего. Оставьте другим то, что принадлежит им и познайте самого себя. «Стань тем, кто ты есть», как говорят индийцы.
— Как мы должны это сделать? — возразил офицер на рыжей лошади. — Всего за сто лет мы из народа либо образованных, либо необразованных превратились уже в народ, состоящий из людей, испорченных ложным образованием, полуобразованных и «четверть-образованных». И именно они сейчас, прежде всего, задают тон. Мы уже многое потеряли из-за этого, многое из естественного такта наших предков, многое из их скромности. Мы стали громкими и самонадеянными. Мы верим, что все‚ можем «сделать». Вошедшая в поговорку молчаливость Мольтке — никак не похоже, что она еще сейчас служит для многих образцом.
Если мы вторгаемся сюда только для того, чтобы выполнить лучшую работу, чтобы создать «порядок», как мы его понимаем, тогда мы неправильно выбрали нашу цель. Тогда мы повторяем ошибки тех, кто уехал на ту сторону Атлантики. Они осваивали новую страну только их работой, их хозяйством, их деньгами. Только в этом они превосходили краснокожих. Они привезли с собой через океан свои знания, свою сноровку и свою корысть, но вежливость сердца — и только она является культурой — вряд ли была в их багаже. «Мы, туземцы, все же — лучшие люди!» — это было еще самое мягкое, что срывалось с губ индейцев, сравнивавших себя с белыми. Лишь бы никто тут не мог когда-либо сказать что-то подобное о нас!
Сотнями тысяч текли они к нам, не в последнюю очередь и потому, что «не хлебом единым жив человек». Если мы им сейчас не дадим того, что они ожидают они все снова отвергнут нас. Они там уже говорят о русской родине, а не о мировом пролетариате, а вместо мировой революции снова вспоминают «святую землю отечества»! Уже снова они обхаживают то, чему уже давно не позволялось быть для них. Выбросить за борт все благоговение — такова же была суть их просвещения; так поступали сначала по отношению ко всему вечному, всему недоказуемому, но также и всему высокому, сохраненному, пережитому в самой глубине души.
Вокруг священного трепета Канта перед «звездным небом над головой и нравственным законом внутри нас» мнения расходятся. Оно стоит в начале всей культуры. Если бы у нас ничего этого больше не было, ничего больше для чего-то в этом мире — я не знал бы, за что мы еще боремся. Кто не хочет склоняться ни перед чем — это я слышал однажды — не может долго нести груз самого себя. Человек без благоговения никогда не справится с собой. Он всегда будет в бегах от самого себя.