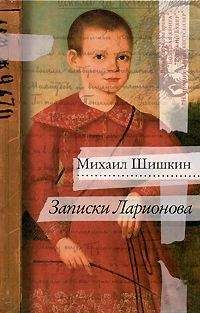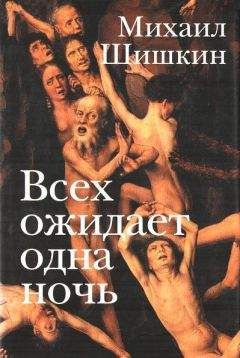Ознакомительная версия.
– Что вы несете? С чего, черт возьми, вы взяли, что вас убьют? Вы, Белолобов, возьмете Варшаву и дослужитесь до генеральства!
Он захохотал. Вино налили в чашки, оказавшиеся под рукой, и выпили. Лицо его сделалось серьезным.
– Вы знаете, – сказал он мне на прощание, – я тоже чувствую, что ничего страшного со мной не случится. Ну, прощайте, пора.
Перед тем как убежать, он стиснул меня в объятиях и прижался к лицу своей щекой.
Помню, в ту минуту, глядя в окно, как Белолобов бежал к санкам, я подумал, что не знаю, ненавидеть или жалеть этого слепца. Скольких людей, повинных лишь в том, что не хотят жить рабами, убьет его рука, которую я только что пожимал? И если суждено ему быть убитым, он и умрет-то в счастливом неведении, думая, что умирает за отечество! Что за Богом проклятая страна, где зло творят милые, хорошие люди!
То, что в тот рождественский вечер я столкнулся с Ситниковым на Рыбнорядской, было, конечно, простой случайностью, как и то, что он тоже был выпускником Дворянского полка, что поневоле нас сблизило. С другой стороны, было бы странно, чтобы два человека, ненавидевшие одно и то же, рано или поздно не сошлись.
В тот вечер какая-то тоска погнала меня на улицу. Извозчики, кучера, все были пьяны и носились сломя голову с истошными криками. Я бродил среди праздничного хмельного люда, пока не стемнело. У ворот каждого дома зажглись подслеповатые плошки, наша казанская иллюминация. На Рыбнорядской горели костры. Там толпился народ, было шумно, что-то кричали, пели. Помню, как старик с клюкой и медалями на армяке убеждал кого-то, что самого Наполеона одолели, а уж с поляками царь и подавно управится. Рядом люди толпились у ширмы, над которой Петрушка бодро дубасил какого-то урода в чалме, причем называл его паном. Из толпы его подзадоривали:
– А ну-ка наподдай, наподдай-ка ему еще! Бей, не жалей!
Пан в чалме верещал и скулил, а Петрушка все сыпал ему одну затрещину за другой. Все лица кругом были в красных отблесках от костра.
Там, в этой толпе, мы и столкнулись. Ничего приятного в такой встрече я для себя не находил. На службе с этим человеком мы, кажется, и парой слов не обменялись. Как-то раз случайно столкнулись в гостинодворской книжной лавке: тогда он сухо ответил на мой поклон, с трудом признав во мне знакомого.
То, что мы оказались однокашниками – Ситников был выпущен в тот самый год, когда я поступил в полк, – обрадовало его, но не меня. Общее прошлое к чему-то обязывает. Только не хватало быть связанным с этим человеком, неприятным мне, и этими узами. На меня вдруг пахнуло, казалось, давным-давно истлевшим в памяти духом холодного, неуютного дортуара, шумной удушливой столовой залы, дождливого осеннего плаца. Мы вспоминали наших учителей, давнишние проказы, общие у всех выпусков, знаменитые полковые анекдоты, обычаи. Расхохотались, вспомнив «мороженое». По воскресеньям оставшиеся в корпусе кадеты устраивали себе пиршество: в ведро выжимали через простыню клюкву, размешивали сок с патокой, а потом клали туда снег – и мороженое было готово. За неимением ложек ведро без церемоний в мгновение ока вычерпывалось руками.
За разговорами, вспоминая то, что было давно забыто, мы незаметно подошли к его дому. На втором этаже, где он снимал квартиру, было темно.
Я хотел проститься, но Ситников сказал:
– Идемте, я провожу вас. В такую ночь как-то глупо ложиться спать.
Я пригласил его к себе распить бутылку вина.
На лице Нольде изобразилось крайнее удивление, когда он увидел в дверях вместе со мной нашего нового сослуживца-нелюдима. Евгений Карлович был красный, распаренный, пыхтел громче обычного, видно, уже выпил рюмку, и не одну. С тех пор как я зачем-то обидел его, он больше не поднимался ко мне, мы лишь молча раскланивались при встрече, а теперь опьяневший старик принялся лобызать и меня, и Ситникова и, хотя мы хотели подняться ко мне наверх, насильно усадил нас за стол.
Старики Баевские были умилительно похожи друг на друга, как все люди, прожившие долго вместе, и казались копией один другого и жестами, и словечками, и чертами лица. Весь вечер Баевский никому не давал вставить слова и рассказывал про польскую кампанию, когда служил у Суворова гусаром.
– А я вам говорю: доверять полякам – ни-ни, ни в коем случае! – кричал он, тряся складками кожи под подбородком. В этом тучном, обрюзгшем старике трудно было признать кавалериста. – Сколько у нас так вот погибло – чуть отстал от эскадрона, замешкался, а потом находят тебя с вилами в боку! В Мциевцах, как раз накануне того боя, когда был пленен Костюшка, устроился я на дворе бриться, а напротив была цирюльня. И вот стоит в дверях фризёр, на меня смотрит и посмеивается, мерзавец. «Прошу, – кричит, – пана гусара до голения!» И наших кругом, как назло, никого! Я на него ноль внимания. Одной ведь Матке Боске известно, что там этот негодяй задумал. Полоснет бритвой по горлу, и голоса подать не успеешь. А он за свое, и так с ухмылочкой говорит: «Може, пан россиянин струсил?» Тут я вскипел, кровь ударила в голову. Плюнул на все, думаю, будь что будет, но чтобы я, русский человек, перед этим наглым полячишкой дрожал? Не бывать тому! Сел к нему в кресло, саблю поставил поближе к себе, а он, подлец, смеется. И то правда, думаю, теперь и сабля не поможет! Этот хам вокруг меня крутится, завязывает салфетку, точит бритву, а я уже и не рад своей дурости. Сижу и жду, когда меня, как поросенка, зарежут. Он уже мне пену по шее размазал, а я все никак не решусь бежать. Все-таки дело чести! Никогда мне еще так жить не хотелось. Наконец стал меня этот черт брить. Бреет-бреет, конца нет, а я весь мокрый сижу, с жизнью прощаюсь. Он смотрит на меня и подло так улыбается. Думаю, решил покуражиться, а потом уже прикончить. Тут он вдруг снимает салфетку и хихикает: «Готово, пан». А я сижу ни жив ни мертв. Он даже денег не хотел с меня брать. «Мне, – так и сказал, – вас голить была велька пшиемношчь!»
Все хохотали над подобными историями, которые лились из уст Баевского потоком, и только Ситников сидел мрачный, угрюмый, и я видел, как с каждой минутой он все больше хмурился, комкал салфетку, раздраженно смахивал крошки.
Баевский так размахивал руками, что опрокинул бокал с вином, и красное пятно побежало по скатерти. Старик на минуту замолк, и, воспользовавшись этим, Ситников откланялся. Я вышел проводить его в прихожую.
– Вы, верно, еще не познакомились с нашими достопримечательностями? – спросил я.
Ситников пожал плечами. Сам не зная почему, я вызвался показать ему наши казанские древности. Мы договорились, что на следующий день я зайду за ним. Он улыбнулся мне устало и холодно.
Утром, к намеченному сроку, я отправился на Большую Казанскую. Стоял рождественский морозец, ночью выпал снег, и у тюрьмы арестанты, обмотанные в тряпье, разгребали лопатами сугробы. Они щурились на солнце, били себя по бокам, подпрыгивали, терли щеки и жалобно поздравляли прохожих, выклянчивая копеечку. Если кто-то не подавал, того осыпали ругательствами и злыми насмешками. Солдат, охранявший арестантов, не обращал на это внимания, видно, был с ними заодно, имея потом с этих копеечек свою долю.
Ситников жил в Кафтыревских домах, уцелевших от пожара. Вход к нему был отдельный, и дворник провел меня к крыльцу со двора.
К моему удивлению, дома Ситникова не оказалось. Встретил меня его человек, литвин, плохо понимавший по-русски. Этот белобрысый юноша, щегольски одетый, с яркой шейной косынкой, в вышитой манишке с розовой подкладкой, говорил со мной сквозь зубы и вообще всячески подчеркивал свое неудовольствие моим приходом. Видно, он сам собирался куда-то идти, а я ему помешал. На все мои расспросы, куда ушел его хозяин и когда вернется, он лишь пожимал плечами. Я решил подождать, снял шубу и прошел в комнату.
Здесь был полный беспорядок, всюду валялись неубранные вещи, книги были разбросаны на стульях и на диване, стол был засыпан пеплом и табаком. Было жарко натоплено, и стоял тяжелый дух, пропитанный дымом. С утра не проветривали, и вообще было видно, что хозяин мало трепал своего слугу. На полу у печки разлилась лужа. Очевидно, гордый литвин, когда топил, нанес на сапогах снег и не удосужился за собой подтереть. Я снял с кресла халат, бросил его на диван и присел. Хозяйская обстановка была неуютной: громоздкие допотопные мебели, треснувшие кафли на печи, закопченный, давно не беленный потолок.
Я просидел так с полчаса, сам понимая глупость своего положения. В соседней комнате шаркал литвин, бросая на меня сквозь открытые двери злые взгляды, и недовольно что-то бурчал на своем шепелявом наречии.
Я сел за стол, чтобы оставить записку и уйти, когда Ситников вдруг появился в дверях. Он смутился, стал извиняться. Забыл ли он просто о нашей встрече или хотел отделаться подобным образом от назойливого знакомца – все это было неприлично и даже оскорбительно. Но я, вместо того чтобы уйти, сказал:
– Пустое, я не придал этому значения. Так что же, мы идем?
Ознакомительная версия.