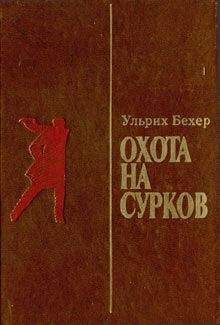Двое Белобрысых играли в домино.
В моем старом «ремингтоне» торчала записка:
Малыш!
Уехала в С.-М. Скоро вернусь.
Твоя К.Дождь булькал в водосточной трубе, я в опанках шагал взад-вперед по двум нашим выстуженным комнатенкам и злился, меня вывело из себя обстоятельство, на первый взгляд нисколько не трагическое, — «моя К.», презрев мои решительные возражения, по таинственным причинам улизнула в Санкт-Мориц, точно она это сделала мне назло. Внезапно мой лоб запульсировал, отмечая усиленное сердцебиение.
А что, если… А что, если она отправилась в «С.-М.», чтобы сесть там в поезд и через Кур и Букс съездить домой, в Радкерсбург? (Нашими деньгами распоряжается она.) Ее туда притягивали два магнита: отец и мать. Они уже две недели не давали о себе знать, и Ксана решила съездить туда. Не застыла ли она на мгновение, разговаривая со мной в служебном зале, точно впала в транс? «Скоро вернусь» может означать и через два часа и через два месяца? Конечно же, мое предположение необоснованное, даже бессмысленное. И все-таки я чувствовал себя брошенным на произвол судьбы, продрогшим и одиноким в комнатах почтмейстерши Фауш.
ВЫЗОВ
ЦЮРИХ, 10 июня 1938 года предлагаем явиться 14 с. м. в 9 ч. утра в полицию, комн. 27*. Иметь при себе: действительный паспорт; всевозм. характеристики (если таковые имеются).
ПОЛИЦИЯ ПО ДЕЛАМ ИНОСТРАНЦЕВ КАНТОНА ЦЮРИХ
Я сквозь зубы стал насвистывать марш-пародию, постоянно сопровождавшую выход и финал коронного номера «Джакса и Джакса», которую Джакса сам сочинил. Назвав «Марш Ракоцидецкого». Выделенное в повестке слово «действительный» походило на приказ — идти на поклон к свастике в Германское генеральное консульство, употребить все усилия и добиться украшенного сей эмблемой паспорта Великогерманского рейха. А какого рода характеристики желают получить господа из полиции? Быть может, те, что выдает отделение государственной тайной полиции в Вене, быть может, подписанные лично господином гауптманом Лаймгрубером? С трудом одолевая сложную мешанину из венгерского национального марша и марша, сочиненного Иоганном Штраусом-старшим в честь «Папаши Радецкого», я подвинул электрическую печь к столу в импровизированном кабинете, уселся за свой заслуженный «ремингтон», расстегнул воротник рубашки, манжеты и напечатал ответ комнате 27а также без обращения:
ПОНТРЕЗИНА, 13 июня 1938 года Уехал лечиться. Вернусь, когда явлюсь
(подпись)
P. S. Опечатка: Явлюсь, когда вернусь.
Я уже решился было отстукать второе письмо, как вдруг оборвал свист. Идея! Я отыскал в пиджаке сложенную бумагу, которую Полари сунула мне, иронически бросив:
— Полюбуйся на расписку твоего адвоката Гав-Гав, вот это документ!
На бланке — под штампом адвоката — почерком, некогда, видимо, каллиграфическим, ныне же беспомощными каракулями, да еще карандашом, было нацарапано:
РАСПИСКА
Сим подтверждаю с благодарностью, что получил за кобеля спаниеля Сирио Бэнкбёрнского (родословная гарантируется) 1450 фр. (одну тысячу четыреста пятьдесят франков) от господина Йоопа тен Бройки.
д-р Гауд. де КоланаВнизу, точно печать, расплылось винное пятно, напоминавшее, как это ни странно, распущенный павлиний хвост. Проясняли рисунок карандашные черточки и точки, нанесенные неверной рукой писавшего. Я без труда стер резинкой каракули, кроме подписи и огорчительного пятна. Беду эту я обратил в благо, — изобразив «печать», и заложил лист в машинку.
ГАУДЕНЦ ДЕ КОЛАНА dr. jur., aclvocat е vicenotar ex-cussglier guv. pres, dal iribunel districtuel Malögia[77]
САНКТ-МОРИЦ, 13.VI.1938 Господину К. Джаксе, РАДКЕРСБУРГ Германия (Остмарк)
Мой драгоценный Косто!
В сладостной надежде на то, что ты и твоя супруга пребываете в добром здравии, хочу порядка ради довести до вашего сведения, что собираюсь вскорости ехать на Хвар. В начале июля у нас в горах, как вам известно, открывается курортный сезон, мне к тому времени по профессиональным соображениям следует вернуться из прекрасной Далмации. Жду тебя вместе с твоей глубокоуважаемой супругой на Хваре не позднее 19-го с. м.; будучи твердо уверен в твоем согласии, я заказал в гостинице Душана комнаты для вас и для себя.
Отказа твоего, извини, я никоим образом принять не могу. Повторяю: никоим образом! Стало быть, никаких отговорок!
До радостной встречи. С глубоким уважением приветствует тебя твой старинный почитатель (каракули):
д-р Гауд. де КоланаЯ заперся в кабинете; приготовил лыжные ботинки, зеленую пелерину-дождевик, старую штирийскую шляпу, пять листов писчей бумаги, пузырек масла для пишущей машинки, пистолет «вальтер». Из коробки, туго набитой дюжиной галстуков и поясов, я вытащил черный ремень, который на первый взгляд мало чем отличался от остальных. Только отстегнув ряд кнопок, можно было обнаружить, что он начинен патронами калибра 6,75 мм. Я сосчитал их; сорок три «фасолины» (как на венском военном жаргоне называют патроны; будучи вторым заместителем командира шуцбундовцев в Штирии, я заказал этот ремень-патронташ у скорняка, социал-демократа, умевшего молчать). Заменив брючный ремень заказным, в котором справа имелся также потайной карман для пистолета, я вытащил обойму из магазина. Подарок Максима Гропшейда 61.1л немецкого производства, сработанный на знаменитом тюринг-ском оружейном заводе: «Карл Вальтер, Целла-Мелис».
Я пустил несколько капель масла в дуло и смазал пружину, регулирующую работу спускового механизма и механизма выбрасывания стреляных гильз. На каждом из пяти листов я намалевал черной тушью пятно, обнеся его тремя красными кругами разного диаметра. Самодельные мишени.
POSTA Е TELEGRAF. Мадам Фауш предстала моему взору в рамке почтового окошечка и, глядя на мой дождевик, объявила:
— Что верно, то верно. «Девять месяцев зима, три месяца холода», как говорят у нас.
— Рядом с вами, мадам Фауш, я не замечаю холода, — воз-разил я, отчего мужеподобная дама, истинно горная фавна, даже чуть-чуть зарозовела. Погрубевшее от непогоды лицо ее обтягивала темная, точно дубленая кожа.
— Ах вы, балаболка, — рассердилась она.
Я подал ей оба письма, письмо в кантональную полицию в Цюрих и другое — письмо-сигнал, письмо-приманку.
Вышел из Нижней Понтрезины, стал подыматься, перешел размытую дорогу в Верхней Понтрезиие, понимая, что в тяжелых лыжных ботинках, в дождевике и шляпе я защищен от любой непогоды и в то же время подвижен, вооружен для своей персональной «переподготовки», и потому насвистывал увертюру к номеру «Джакса и Джакса» Проливной дождь, точно присмирев, перешел в моросящий; на дороге не видно было ни единого путника; ни единого. Сквозь кованые решетки на окнах старых, хорошо сохранившихся домов, этаких крестьянских крепостей, топорщась, словно он замерз, свисал горицвет. Сложенные под крытыми балконами дрова источали густой пряный аромат сырых хвойных лесов, который перебивался горьким запахом гари. Это моросивший дождь, сгущавшийся в туман, сбивал вниз дым каминов. У «Энгадинского подворья» я быстро перешел на извилистую, всю в лужах, тропу, бегущую сквозь кедровый лес к горному пастбищу Лангард, взобрался по склону у хутора Джарсун, прошел мимо развалин пятиугольной башни «Спаньола»: словно бы еще во времена сарацинов сюда, на эту высь, был выдвинут мавританский сторожевой пост. А дальше оиять кедровый лес с сеткой дождя в просветах меж деревьями. Внезапно густые влажные клубы скрыли от меня перспективу; я пересек границу тумана. Держась как можно ближе к ней, я оставил тропу, зашагал по скользкому мху, продрался, согнувшись, сквозь кустарник. По глубоко надвинутой на глаза шляпе хлестали мокрые ветки; то и дело цеплялся за сучья мой дождевик. Свежий снег — в долине его смыл дождь — здесь кое-где еще держался. Я остановился у лиственницы, ветви которой начинали расти где-то высоко, прислушался.
Вокруг приглушенно звенела прерывистая капель. Пет, это не бесшумный моросящий дождь; это срывается с набухших сырых веток, на слух точно вездесущее топотанье, капель.
Дальность видимости на ничейной полосе между лесом и царством тумана — около двадцати шагов, а значит, вполне достаточная для моего замысла. Я расстегнул дождевик, вытащил все пять листов, мои самодельные мишени, развернул одну из них и прилепил к стволу лиственницы. К сырой смоле она приклеилась, как плакат к афишному столбу.
Сгорбясь, еле передвигая ноги, я пробирался среди глухо потрескивающих ветвей и отсчитывал шаги на скользкой земле — точно дряхлый секундант на дуэли, подумал я — семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Тут я обернулся. Яркие красные круги и черное пятнио достаточно четко выделялись на промокшей бумаге. Замерев на мгновение, я еще раз прислушался. Только звонкая капель, точно вездесущее легкое топотанье. Я вытащил «вальтер», снял с предохранителя, прищурил правый, временами слабовидящий глаз, поднял «вальтер» перед левым, прицелился и сразу же выстрелил: бах! бах! бах! Все три выстрела прозвучали до странности глухо и без раскатистого эха, скорее как три шлепка мокрой тряпкой по полену или три выстрела за обитой дверью.