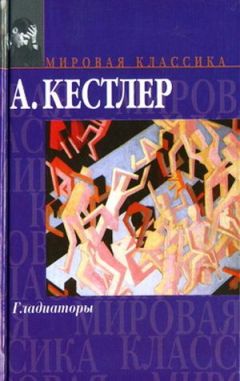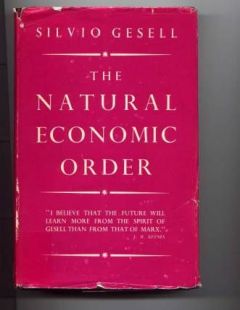— Я ведь даже позволил тебе вступить в общество взаимной кремации!
— Верно.
— Мы с ним состоим в одном обществе, — подсказал зеленщик. — Позавчера у нас было собрание.
— Вот видишь! — удивленно воскликнул Гегион. — Совсем как свободный человек.
— Других привилегий у меня нет, — напомнил Публибор.
— Как это нет? — еще больше удивился Гегион. — Да, наверное, так велит закон… Но и это кое-что. В своем завещании я распоряжусь о твоем освобождении. Наверное, по-твоему, я зажился?
— Да, хозяин.
Гегион усмехнулся, зеленщик вздохнул.
— Что я тебе говорил? Все это опасно. Советую его выпороть.
— Значит, тебе так важна свобода? — не унимался Гегион. — А по-моему, это иллюзия. Разве ты не признался только что, что у меня тебе хорошо?
— Эта так.
— Ты накопил денег.
— Накопил.
— То-то и оно! — воскликнул зеленщик. — В прежние времена это было бы невозможно. Собственность разжигает аппетит. Лучше отними у него сбережения и вели выпороть.
— Хорошее предложение, — сказал Гегион на прощанье. — А пока что мы сходим за ветвями и листвой. Надо же как следует встретить фракийского князя!
Набрав много лозы и веток с листвой, они уселись неподалеку от пасущегося стада, у реки Кратис. Собака тоже устала и распласталась рядом, грациозно, как фиванский сфинкс, вытянув лапы.
— Послушай! — обратился Гегион к своему рабу. — Вот мы сидим с тобой вдвоем у реки, рядом — величественные горы. Ты действительно желаешь моей смерти?
Юноша посмотрел на него и ответил:
— Ты действительно мой господин, а я действительно твоя собственность?
— Боюсь, что да, — сказал Гегион. — Это факт, с какого боку на него ни взгляни. Даже сейчас, когда мы с тобой одни здесь, у реки, у подножия величественных гор, ты все равно чувствуешь, как дерзки твои слова, а я считаю свои слова полными благородной снисходительности. Скажи, разве это не так?
— Так, — согласился юноша, помолчав.
— Но продолжим. Все, что существует, реально, никуда от этого не уйдешь. Вот сижу я на солнышке, грею спину, а ты сидишь в теньке и мерзнешь. Верно, это несправедливо, но так уж оно есть, и боги о чем-то думали, когда так устраивали мир. Если бы они задумали его иначе, иначе и вышло бы. Реальность — сильный аргумент, не правда ли?
— Правда, — согласился раб. — Но стоит мне тебя толкнуть — и я сидел бы на солнышке, а ты очутился бы в реке, хозяин.
— Почему же ты этого не делаешь? — спросил Гегион с улыбкой. — Попробуй! Или ты страшишься кнута?
Впервые юноша спрятал глаза и ничего не ответил.
— Ну? Что же тебе мешает? Вот мы сидим у реки вдвоем, и ты сильнее меня. Если ты убьешь меня и сбежишь к фракийцу, то сможешь забыть о страхе наказания. Почему у тебя не поднимается рука?
Юноша молча рвал траву, пряча глаза.
— Наш земляк, великий Пифагор, учил, что господам полагается божественное поклонение, а слугам — скотское обращение. Ты с этим согласен?
— Не согласен, — вскинул глаза Публибор.
— Почему же тогда ты не столкнешь меня в реку, тем более, что тебе за это ничего не будет? Почему не пустишь в ход свою силу? Почему в твоей душе стыд, а в моей волнение и снисхождение? Или все это не так?
— Все так, — сказал раб и немного погодя добавил: — По привычке.
— Ты так считаешь? Думаешь, фракиец обучит нас новым привычкам? Если ему это удастся, то он заткнет за пояс самого Ганнибала. Нет ничего труднее и значительнее, чем изменить привычные мысли.
— Да, — сказал раб.
— Где же ты всего этого набрался? — спросил его Гегион. — Ты всегда усердно трудился и помалкивал. Я даже не замечал, что у тебя есть лицо, тем более, что ты умеешь улыбаться. Смеяться — может быть, но улыбка… Скажи, ты хоть знаешь, что такое улыбка?
Раб молчал. Гегион внимательно наблюдал за ним, улыбаясь улыбкой то ли дитя, то ли блаженного старца.
— Ты желаешь мне сейчас смерти? Желающий другому смерти не станет улыбаться. Взгляни на камешки на дне реки: вода такая прозрачная, что видны даже стебельки травы. Вода, протекая среди этих камешков и травинок, еле слышно журчит. Ты видишь и слышишь такие вещи?
— Нет, хозяин. У меня никогда не было времени поваляться в траве.
— Слепым, глухим и безрадостным проходишь ты по этой жизни, тем не менее хочешь моей смерти, хотя у меня есть глаза, чтобы видеть, я различаю бесчисленные ароматы моря. Вот почему тебе стыдно, вот в чем источник моего доброго снисхождения. Несчастье очень непривлекательно.
Раб все рвал пучки травы. Потом сказал:
— Ты сам говоришь, что я сильнее.
— Да, но давно ли это стало тебе известно? Это не такая уж очевидная мысль, как может показаться. Хозяйка частенько тебя поколачивает — верно, несильно, но все же поколачивает, но тебе ни разу не пришло в голову, что ты сильнее ее.
— Не пришло, — подтвердил раб и повторил после паузы: — По привычке.
— А теперь? Что, фракиец вдруг раскрыл тебе глаза на твою силу? Говорят, его лазутчики и посланцы кишат повсюду, подстрекая рабов на неповиновение. Это правда?
— Правда.
— Ты веришь в его учение?
— Верю.
— Все вы в это верите?
— Не все, но многие.
— Почему не все?
— Старые привычки слишком сильны.
— Каков он собой, этот твой Ганнибал для рабов?
— Он носит звериную шкуру и ездит на белом коне. Стража из силачей несет перед ним фасции.
— Как перед римским императором?
— Нет, его эмблемы — не серебряные орлы, а разорванные цепи.
— Остроумно! — похвалил Гегион. — Сдается мне, нас обоих ожидает вполне безопасное развлечение. Тебе так не кажется?
— Так и есть, хозяин, — ответил раб искренне.
Потом они молчали, лежа на траве и глядя на синие горы, величественно проступающие сквозь рассеивающийся утренний туман. Солнце оторвалось от моря, заскользило вверх, согрело воздух, покончило с утренней свежестью в полях. В оливковых и лимонных рощах люди уже гнули привычно спины.
Прежде чем отправиться домой, Гегион сказал своему молодому рабу:
— Странно сознавать, что фракиец вступит в город прямо сегодня и, возможно, все изменит. Мы с тобой по-настоящему в это не верим. Это как с войной: все о ней болтают, одни за войну, другие против, но никто искренне не верит, что война разразится; когда же это все-таки случается, они поражены, что, оказывается, угадали будущее. Сильнее всех удивляется пророк, когда сбывается его пророчество. Ибо в мыслях человеческих непреодолимая леность привычки, и добродушный голос не устает нашептывать нам, что завтра будет то же, что сегодня и вчера. И мы верим вопреки рассудку. Это есть благо, ибо иначе, зная, что смерть неминуема, человек не смог бы жить.
А теперь пойдем и займемся украшением дома веточками и листьями, чтобы достойно поприветствовать вступающего в наш город князя Фракии.
Солнце поднялось высоко, город гудел деловитой радостью; жители Фурий украшали свои дома лозой и гирляндами из листьев. Дома были с плоскими крышами и белые, как меловая почва самой Лукании. Потомки троянских воинов предвкушали приятные перемены в монотонной повседневности, связанные с появлением фракийского князя в шкурах. Они толпились и давились на улицах, узких и извилистых, как каменистые русла высохших речушек. Римские колонисты держались в сторонке и патриотично хмурились. Возможно, ими владел страх.
Городской совет Фурий тоже не очень-то ликовал. Да, новоявленный император задал Риму чувствительную трепку, что не могло не порадовать советников. Но в остальном он их не слишком обольщал. Он называл себя «освободителем рабов, предводителем угнетенных». Можно, конечно, толковать эти слова символически, особенно если учитывать возможность союза с греческими городами италийского Юга, стонущими под римским игом. В Пунические войны Фурии и другие греческие города были союзниками Ганнибала. Однако Ганнибал был военачальником и князем у себя на родине; что же касается родословной Спартака, то об этом лучше не распространяться, иначе придется признать, что в князи его произвел сам совет Фурий, чтобы не уронить себя: не могли же потомки троянских воинов вступить в союз с бродячим гладиатором! А обойтись без такого союза было никак невозможно, иначе Фуриям настал бы конец; если уж совсем начистоту, совет Фурий радовался и одновременно удивлялся, что гладиатор вообще соизволил вступить с ним в переговоры. Переговоры эти приняли неожиданный оборот, но их итогом стало подписание соглашения.
По этому соглашению, за городской чертой Фурий, на равнине между реками Сибарис и Кратис, защищенной с одной стороны горами, с другой морем, армия рабов разобьет постоянный лагерь и заложит поселение под названием «Город Солнца». Корпорация Фурий уступит фракийскому князю все поля и пастбища в этом районе, а также возьмет на себя снабжение армии рабов, пока она не начнет кормиться со своих земель. Солдаты Спартака, со своей стороны, после церемонии вступления армии в город, которая будет чисто символической, перестанут ему угрожать и досаждать, а Спартак с момента создания союза прекратит подстрекать рабов Фурий к неповиновению.