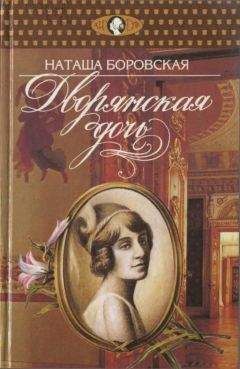В сентябре патриотический подъем сменился печалью и первыми сомнениями. Даже взятие Львова в Галиции 2 сентября 1914 года не могло заглушить жгучую боль от нашего тяжелого поражения в боях под Сольдау и Танненбергом, где была разбита доблестная императорская гвардия, уничтожен цвет русской армии и дворянства. Многие уцелели лишь для того, чтобы пасть в бою у Мазурских болот. Среди других был смертельно ранен брат Игоря, великий князь Олег Константинович, очень одаренный юноша, поэт. Сам Игорь едва не погиб, увязнув в болоте вместе с лошадью.
Вся императорская семья, забыв о прежних раздорах, оплакивала юного князя. Бабушка глубоко скорбела вместе с его отцом, великим князем Константином, как если бы Олег был ее родным сыном. Смерть славного товарища моих детских игр, умершего от ран по пути домой, в санитарном поезде, стала для меня первой личной утратой в этой войне.
Как изменилось, повзрослело и каким неизъяснимо грустным было лицо моей Таник, когда она стояла со свечой в руке во время отпевания Олега. Кого она оплакивала? Одного из многочисленных родственников, с которым, по правде сказать, никогда не была особенно близка? Или, быть может, юный великий князь отчасти заменил дочери государя то, что так необходимо благородному девичьему сердцу? Кто знает… Увы, ей не было дано послать на эту войну своего прекрасного рыцаря и гордиться им, и укреплять его дух, и мучиться, и не спать по ночам…
В конце сентября турки перекрыли Дарданеллы, полностью отрезав Россию от любой военной помощи со стороны союзников с юга. В ноябре Турция объявила войну, и Россия оказалась воюющей на два фронта. К этому времени в войсках стала ощущаться острая нехватка орудий и боеприпасов.
В конце года наше наступление в Галиции было приостановлено. Немцы вновь заняли восточную Пруссию. Командирам было приказано беречь боеприпасы. В Петрограде набранные из крестьян рекруты, почему-то без винтовок, проходили строевые учения на Марсовом поле и Дворцовой площади. Возникшие в последнее время слухи об измене в верхах и коррупции в Военном министерстве еще более усиливали всеобщее недовольство по поводу нехватки боеприпасов. Единение общества и властей оказалось, увы, недолгим.
Для меня это было время глубоких внутренних перемен, я освободилась от эгоцентризма и стала взрослой. Все мои прежние горести и радости казались мне теперь детской игрой. Никто не имел больше права на личную жизнь. Даже любовь, это ревнивое, эгоистичное чувство, которое я испытывала сперва к отцу, затем к Стефану, померкла перед всеобщими невиданными страданиями. Не то, чтобы я меньше любила Стефана, напротив, я любила его сильнее, чище и бескорыстнее, но сейчас нужно было направить все свои душевные и физические силы на помощь всем, кто так безмерно страдал, будь то русские, немцы, австрийцы, евреи. И хотя я не могла проникнуться ко всем этим чужим для меня людям любовью, но могла и должна была восполнить недостаток искренней любви полным самопожертвованием. Да, я по-прежнему принадлежала России и государю, моему классу и моей семье, но все же в первую очередь я принадлежала всем тем, кому могла, а значит, и должна была помочь.
Как внучка патронессы и председателя совета Мариинского лазарета, я могла бы избежать грязной работы, которую должны были выполнять девушки, обучавшиеся на курсах сестер милосердия. Обычно эту малоприятную работу, считавшуюся слишком низкой для благородных девиц, выполняли санитары; но мы с бабушкой настояли на том, чтобы я проходила практику как обычная медицинская сестра.
Я училась стелить постели так, как положено по инструкции, обмывала раненых и выносила из-под них судна. Человеческие тела и их функции не отталкивали меня, я довольно быстро преодолела в себе брезгливость. В каждом молодом офицере, за кем я ухаживала, я видела Стиви, и душа моя протестовала против той жестокости, с которой эти тела были искалечены войной.
Вскоре я начала ассистировать при перевязках. У меня перехватило дыхание, когда я первый раз сняла затвердевшие за десять дней бинты со спины молодого кавалериста. Меня не тошнило, как других новичков, от запаха газовой гангрены, я быстро научилось вставлять дренажные трубки и делать уколы.
Вскоре я стала помогать сестре-хозяйке и врачу. Благодаря моему воспитанию, мне нетрудно было соблюдать больничную субординацию и дисциплину, а близкое знакомство с жизнью военных помогало отличать необходимую требовательность от чрезмерной пунктуальности. Поэтому я выполняла бесполезные распоряжения лишь до тех пор, пока они не наносили вреда, и была точна в мелочах. Я была приветлива и даже весела с пациентами, в то время как сердце мое разрывалось от боли и сострадания; была неизменно любезна даже с теми, кто был мне весьма неприятен, и мое поведение, больше чем способности, позволило мне добиться признания, так что я занимала второстепенное положение не более двух месяцев.
Когда зимой старшая медсестра слегла с гриппом, я заняла ее место у входа в длинную палату с высоким потолком. У меня хранились медицинские карты пациентов, я выдавала медикаменты, лежавшие в запретном шкафу, и отдавала распоряжения сестрам, старшим меня по возрасту. То обстоятельство, что я с детства была окружена прислугой, пошло мне на пользу, это научило меня давать распоряжения, не раздумывая, согласен кто-либо со мной или нет.
Время быстро летело в трудах и заботах, приближалось Рождество. Я получила недельный отпуск, и как-то раз, возвращаясь с нашей дачи, приспособленной под солдатский санаторий, увидала господина в очках с черной козлиной бородкой, семенившего вниз по набережной Невы на Васильевском острове. Я велела кучеру остановить сани и окликнула его. Профессор Хольвег с раздражением обернулся, но увидев меня, просиял.
— Как поживаете, профессор? — спросила я, в то время как мой бывший домашний учитель уселся подле меня, накинув медвежью полость.
— А как можно жить в такое время, Татьяна Петровна? Что может испытать интеллигентный и мыслящий человек во время массового безумия, каким является эта война?
— Я знаю, вы очень много трудитесь, профессор. Его Величество высоко отозвался о вашей работе.
— Да, я вношу свою лепту в эту бойню. Как подданный царя, я не имею права выбора.
— Но я думала, что после аудиенции Его Величество вам понравился.
— Сознаюсь, мне понравилась скромность государя и то, как просто он держался. Но во мне не уживается этот образ доброго, хотя и не очень умного человека, и то, как чудовищно обращаются с еврейским населением в военной зоне. Тысячи депортированных в товарных вагонах, казни так называемых шпионов, отказ принимать в госпитали раненых евреев.
— Не может быть, профессор!
— Именно так, Татьяна Петровна! Я являюсь председателем комитета помощи еврейскому населению, хотя, в принципе, ненавижу комитеты… Я знаю, о чем говорю.
— Как это ужасно! Я расскажу об этом в Царском Селе, уверена, что Его Величество ничего не знает. Такие ужасные вещи могут творить только самые невежественные полицейские и военные.
— Простите, Татьяна Петровна, но, как царь-самодержец, Николай II должен нести ответственность за преступления России.
— Папа говорит, что Россией правят бюрократы, а не царь.
— Он властен выбирать своих слуг, но, по-видимому, предпочитает самых продажных и некомпетентных.
Я уже слышала подобные слова в своем кругу.
— Его Величество считает себя самодержцем по велению Божьему, — неуверенно ответила я, в душе сомневаясь, имеют ли значение для Бога формы правления.
— Самодержавие в двадцатом веке — это анахронизм. Царь, у которого не хватает ума это понять, не может управлять современным государством.
Мне было неприятно, что моего государя и крестного отца назвали глупым.
— Понимаю, что виновен в lèse-majesté,[36] — проронил профессор Хольвег и потянулся вперед, чтобы хлопнуть Герасима по спине.
— Не надо, профессор. — Я положила ладонь ему на руку. — Я знаю, что на деле вы не такой грозный, как на словах. Но если бы не знала, то решила, что вы оправдываете революцию.
— Я ничего не оправдываю, Татьяна Петровна. Просто, делая логические выводы из своих наблюдений, прихожу к выводу, что царизм обречен.
— Но что может заменить его, профессор, кроме как нечто ужасное?
— Вы правы, Татьяна Петровна. Альтернативой может быть хаос или коммунизм. Но это только свидетельствует об отсталости народа, невежестве, в котором держал его царизм.
Мне часто доводилось слышать, как русский народ называют отсталым. Но для меня народ означал няню, Федора, Герасима и других, таких, как они, кого я знала с детства. И хотя они не умели читать, но могли делать едкие и умные замечания, как и профессор Хольвег. Но профессор не знал или не любил простых русских людей.