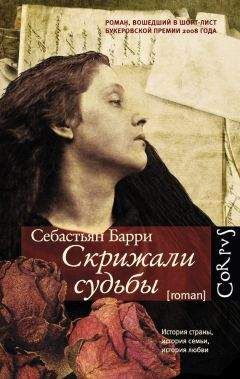— На нее свет падал из окна, и она была прямо ангел, — однажды сказал мне Старый Том.
Уж не помню, к чему он мне говорил и когда это было. Наверное, еще в самом начале, когда все было куда лучше. Помню, что мысли у него вечно разбредались в разные стороны. Он был невероятно доволен собой и, думаю, имел на то полное право. Но она теперь отнюдь не казалась мне ангелом.
— Коленки-то совсем острые, — сказала она, строго оглядывая мои ноги.
— Какие? — переспросила я.
— Острые, острые.
— Ну, знаешь, а то детям будет неудобно сидеть, — пришел Том мне на помощь, но что-то мне это никак не помогло.
— А-а, — сказала я.
На лице у нее были прочерчены странные белесые дорожки, будто легкая сыпь первого снега у обочины. Наверное, она напудрила лицо. А солнечный свет, который день за окном буквально втолкнул в комнату, ее выдал.
Нужно мне постараться писать о ней справедливо.
Тут Старый Том усадил меня в одно из бугристых кресел. На каждый подлокотник было нашито по салфеточке, на которой простой гладью были вышиты цветы. Скромная, опрятная работа. Сама миссис Макналти уселась на кушетку, где лежала небольшая стопка книг — то были ее альбомы. Ради такого случая она даже отложила их, как любитель сладкого, страшно терзаясь, откладывает подальше плитку шоколада. Старый Том подтянул деревянный стул поближе ко мне. Уж он-то держался весело. В руках у него была маленькая флейта пикколо, и он без лишних разговоров начал мастерски наигрывать на ней какой-то ирландский мотивчик. Потом остановился, рассмеялся и сыграл еще один.
— На виолончели умеешь? — спросил он. — Нравится, как она звучит?
Конечно, в бэнде он никогда не играл ни на флейте, ни на виолончели, и теперь казалось, что он вместо слов говорит со мной при помощи этих, куда более редких инструментов. Но я никак не могла уловить, что же именно он пытался сказать. В «Плазе» мы с ним часто болтали, но тут казалось, что этих разговоров и вовсе не было. Как будто бы я вообще не встречала его раньше. Все это было очень странно.
Миссис Макналти фыркнула, встала с кушетки и выплыла из комнаты. Это ее фырканье могло означать что угодно, и я надеялась, что это было всего лишь характерное восклицание, как писали в старых романах. Старый Том еще прошелся немного по своему репертуару, а потом тоже поднялся и вышел. И Том вышел тоже. На меня он даже не поглядел.
И я осталась сидеть там. Только я, комната, эхо музыки Тома да еще одно эхо — миссис Макналти, которое разгадать было так же сложно, как мелодии О’Каролана.[40]
Наконец Том вернулся, подошел ко мне и помог мне встать с кресла. Сказать он ничего не сказал, так, мелькнул улыбкой, будто бы говоря — ну вот так, что ж тут поделаешь. Мы с ним вышли на Страндхилл-роуд, где помимо этого дома стояли еще четыре или пять таких же, по акру земли на каждый. Было что-то незаконченное в этой улице, незавершенное, и какой-то уж очень незавершенной вышла эта встреча с миссис Макналти.
— Я, что, ей не понравилась? — спросила я.
— Ну, ее беспокоит твоя мать. Можно сказать, у нее профессиональный интерес. Но это не главное. Нет, не главное. Я думал, что все дело будет в этом, но нет. Мама очень религиозна, — сказал Том. — Вот что самое сложное.
— А-а, — сказала я и взяла его под руку. Он улыбнулся мне почти ласково, и мы с ним довольно мило зашагали вместе по направлению к узким старым улочкам городских окраин.
— И вот еще что, — сказал он, — она хочет, чтобы ты побеседовала с отцом Гонтом, если это возможно.
— Зачем? — спросила я.
А сама подумала, господи боже, так она еще и с отцом Гонтом дружбу водит.
— Ну, понимаешь, — сказал он, — про всякие там что да как. Дурацкий этот Ne Temere[41] и все такое прочее. Черт дери, да мне наплевать, будь ты хоть индуской, но сама понимаешь, это все из-за пресвитерианства. Господи Иисусе, да мне кажется, до того ни один протестант не ступал на порог ее дома, вот уж точно тебе говорю.
— Но я-то, я сама ей понравилась?
— Не знаю, — ответил он. — Про это она ничего не сказала. У нас в кладовке было чисто заседание комитета, только официальные вопросы.
Том еще не просил моей руки или что-нибудь в этом духе, но все же я знала, что все эти разговоры как-то связаны с замужеством. Внезапно мне самой не захотелось идти за него или за кого другого, вообще замуж расхотелось. Мне было слегка за двадцать, а в те времена двадцать пять — уже старая дева, и тогда тебе даже какого-нибудь горбуна в мужья не достанется. Тогда в Ирландии девушек было куда больше, чем парней. Женщины поумнее в два счета срывались в Америку и Англию, пока еще не успели увязнуть навечно в ирландской трясине. А Америке женщины были страсть как нужны, мы шли на экспорт в Америку, что твое золото. Они уезжали сотнями, сотнями — каждый божий год. Красавицы и толстушки, низенькие, страшненькие, крепкие и изможденные, молодые и старые, да всех мастей, черт подери. Я думаю, что они ехали за свободой, следуя зову своих инстинктов. Уж лучше сидеть без денег в Америке, чем без мужа в этой чертовой Ирландии. Вдруг меня накрыло отчаянным, страстным, яростным даже желанием последовать за ними. Запах той баранины въелся в мою одежду, и мне казалось, что избавиться от него можно только перебравшись через Атлантику.
Но, видите ли, любила я этого Тома. Господи, помоги.
Записи доктора Грена
Непонятные и неприятные новости про Джона Кейна. Сегодня на собрании обсуждали доклад одного из санитаров. Родственница одной из пациенток обнаружила, что та чем-то сильно расстроена, пациентка эта — еще довольно молодая женщина из Лейтрима, ну, молодая по сравнению с местными стариками, так-то ей, наверное, слегка за пятьдесят. Она у нас недавно, страдает от острого психоза — она-де мессия в женском обличии, которой не удалось спасти этот мир, и за это она себя регулярно бичует. Для бичевания используется колючая проволока. И все это происходило на самой обычной лейтримской ферме, в самой обычной и даже, кажется, счастливой семье. Вот, одна трагедия уже есть. Но та родственница, по-моему, сестра, сегодня утром пришла к ней в палату и застала ее в сильной тревоге: ночная сорочка задрана, между ног — подозрительные следы крови. Крови не то чтобы много, так, пара пятнышек. Как обычно, все сразу заподозрили самое худшее, отсюда и собрание всего персонала. Все, как один, думают на Джона Кейна, потому что за ним и раньше вроде бы замечали подобное, но доказательств особых не было. Но с другой стороны, он ведь такой старый, неужто он еще на что-то способен? Хотя, наверное, уж это мужчина всегда сумеет. Но доказательств у нас нет, ни единого, поэтому нам всем нужно просто быть начеку.
Снова поражен тем, до чего же все на этих собраниях обычно перепуганы, как боятся, что о событиях в клинике придется докладывать кому-то постороннему. Что придется в чем-то отчитываться перед какой-нибудь комиссией, и неважно, что именно эта комиссия пришла проверять. И этот страх я наблюдаю на каждом собрании, даже если речь идет о легком пищевом отравлении, которое пациентам устроили повара. Весь персонал собирается вместе и будто бы сжимается в клубок, ощетинивается иглами. Должен признаться, я и сам чувствую то же самое. Человека со стороны, наверное, должно шокировать то, на сколько нарушений мы просто закрываем глаза, даже на очевидные катастрофы. И все же этот инстинкт очень силен, особенно, как мне кажется, в психиатрической лечебнице, где работа и без того тяжелая, дикая даже. Здесь уровень стресса каждый день зашкаливает до отметки «ураган» или «цунами». Поэтому всегда лучше справляться своими силами. Однако я пока не знаю, что там решит родственница.
Как же непривычно постоянно напоминать себе, что скоро все эти люди, все эти комнаты, да все эти проблемы отправятся на все четыре стороны, после того как это здание спишут.
Странно, что на этой же неделе у Джона Кейна обнаружили рецидив рака горла. Ему об этом, конечно, не сказали, нет. Ему просто трудно глотать, вот и все, что он знает. Если б не все случившееся, его было бы ужасно жалко. Конечно, если все случившееся — его рук дело, то нам остается только пожелать, чтоб, как говорят ирландцы, он перед смертью вопил как осел.[42] Впрочем, в его возрасте такой тип рака может прогрессировать очень медленно. Хотя, точный его возраст мне так и не удалось узнать. Он сам сказал, что свидетельства о рождении у него нет, так как он вырос у приемных родителей. Что ж, надеюсь, у нас с ним только это общее. Он тут все еще работает только потому, что никому как-то в голову не пришло отправить его на пенсию — никто же не знает, сколько ему лет. И кроме того, такая это черная работа, что найти ему замену будет практически невозможно, вряд ли за нее возьмется даже очень старательный китаец, босниец или русский. Да и сам Джон Кейн не выказывает пока желания сдать метлу. И он по-прежнему упорно карабкается по лестнице в палату Розанны, хотя эти ступеньки его когда-нибудь прикончат, и ему давно сказали, что там может убираться кто-нибудь другой. Но нет, стоило об этом заикнуться, как он впал в шамкающую «гневливость».