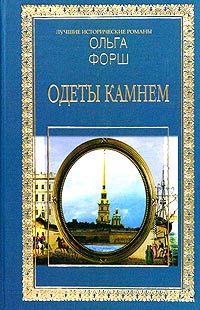Пока не пропала последняя тень вновь воскресшей надежды, Вера, оставив свои кружки и даже единственное утешение — работу в госпитале, как в дни нашей безумной попытки освободить Михаила, опять, словно маньяк, с горящими глазами, безмолвная, с нечеловеческим напряжением воли, хлопотала о доставлении записки Виктории куда следовало. После резолюции, положенной свыше, она, как автомат, который рука заводящего перевела на другую пружину, стала так же безмолвно и без оглядки работать на дело революции: ходила на какие-то тайные сходки, кого-то осведомляла, кого-то прятала. Ни дождь, ни тьма, ни опасность глухой окраины ей не были препятствием. Она не худела, а просто таяла на глазах. Я сказал Линученку:
— Если ее не остановить, к весне у нее будет скоротечная чахотка.
Линученко горько ответил:
— Если можете — остановите.
Полный невыразимой жалости и вспыхнувшей с силой любви, я искал случая застать Веру одну. Однажды я пришел, когда в квартире не было никого; дверь в ее комнату полуотворена. Я увидел ее в кресле в глубокой задумчивости: исхудавшие руки ее были жалостно вытянуты на коленях, и крепко, по-детски, стиснуты пальцы. По тишине, царившей в комнате, как и во всем доме, я решил, что у Веры нет никого, и, войдя быстро, вдруг неожиданно для самого себя стал на колени и, целуя ее милые руки, сказал:
— Вера, очнись! Вера, если тебе не жаль себя, пожалей меня, я гибну… Уедем на Кавказ, попробуем начать новую жизнь. Ты будешь со мною свободна.
Кто-то сзади кашлянул. Я вскочил в ярости. Мы были не одни: здесь сидел этот, уже мною отмеченный, угрюмый молодой блондин. Он подошел ко мне и, глядя сконфуженными, прелестными, полными необычайной доброты голубыми глазами, сказал поспешно:
— Простите, но, право, я не в счет.
И действительно, неловкости от его присутствия я не почувствовал.
Вера встала, взяла этого человека за руку и с видом вдохновения, напомнившим мне лицо ее тогда на террасе в деревне, когда цвели липы и на один миг она, князь Глеб Федорович и я были нечеловечески счастливы, мне сказала:
— Сережа, брат, вот мой новый жених, единственный, чьей невестой я смею быть, не изменяя Михаилу. Но только невестой…
— Итак, поезжай, — повернулась она к нему, — и помни и знай: каждая мысль моя и дыхание и сила всей воли — с тобой! И больше нет колебаний. Бесповоротно.
Он повторил приятным и глуховатым, как у больного, голосом: «Бесповоротно».
Вера поцеловала его, он мне поклонился и ушел.
— Кто это? — спросил я.
— Зачем имя… — уклонилась Вера. — Впрочем, это имя скоро узнает вся Россия, и его впишут в историю. Сережа, я принадлежу к революционному обществу, которое зовется «Ад» и члены его — «мортусы». Это звучит по-ребячески; но, удастся нам она или нет, мы возобновим попытку декабристов дать родине свободу. Вас привела сейчас судьба в решительную и необычайную минуту — неужели опять понапрасну? Опять чтобы, мучительно раздвоив вашу душу, не выковать решения воли? Сережа, вы своего места в жизни все равно не нашли, пойдите же с нами! Мы знаем, за что и на что мы идем. Сейчас нет свободной жизни, сейчас нельзя жить для себя. Сейчас время гибели за грядущее. Пойдем вместе с нами!
— Смерти я не боюсь, но умереть предпочитаю один, а не за компанию.
Первый раз в жизни я враждебный простился с Верой и уехал в полк. У меня шевельнулось недоверие к ней из-за этого нового «жениха», и мелькнула мысль, что, как свойственно большинству женщин, самое обыкновенное увлечение свое она из самолюбивой гордости облекает в форму таинственную. И первый раз не в ее пользу я сравнил ее с гордой дикостью Ларисы.
Ужасные события не замедлили обнаружить всю плоскость моих суждений. Зиму я провел отвратительно: образ Ларисы, как бы оспаривая в моем сердце привязанность к Вере, возник вдруг с такой томительной силой, что двинул меня на нелепую связь, одну из тех связей, которых каждому надо бояться как огня. Случайное сходство в одном из поворотов головы, напомнившее мне ночь в козьей сторожке, заставило меня очертя голову, не ища подтверждения в уме и характере, бешено влюбиться в одну из полковых дам. Впрочем, я больше всего искал забвения, которого ни вино, ни карты мне не давали.
Полковая дама в маленьком городке, как известно, исчисляет дни своей жизни от романа к роману, и страсть моя не только препятствия не встретила, но очень скоро превратилась в тяжкое обязательство, Дама оказалась неумной, с сильнейшим характером и совершенно мещанским обычаем. Она ревновала, делала сцены и всячески предъявляла «права». Соединение двух без участия чувств и разума, по одной лишь физической склонности, вероятно, безопасно для людей исключительно деловых, с воображением сонным и тупостью восприятий. Но ежели кому не редкость волнение чувств, пробужденных художеством или мыслью, тому будет жестокое наказание уже в том обстоятельстве, что он примет в свой организм, как инородное тело, всю грубейшую часть ему чуждой души. Качества эти ему придется или переработать, или быть ими отравленным.
Сколько я ни защищался от влияния этой женщины, я был ею затянут в болото каких-то отвратительных мелочей, и, не хвати у меня силы воли бежать, я бы погиб в этой тине, как гибнут десятки юнцов. Но я подал прошение об отчислении меня для подготовки в Академию генерального штаба и уехал в Петербург учиться.
Веру нашел я в совершенно мне новом состоянии. Она остриглась, курила прескверные папиросы и манеры свои изменила соответственно типу окружавших ее фельдшериц, акушерок, курсисток. И самое главное: она потеряла неуловимые, ей одной присущие черты. Только и узнал я прежнюю, особенную Веру, ту, которую любил, когда на вопрос мой, зачем она себя изуродовала, она серьезно сказала:
— Так легче мне жить. Меня прежней нет вовсе, а есть только винтик сложной машины, которому легче делать работу, когда он смазан тем же маслом, что и соседние с ним винты.
Но, с другой стороны, уже не Линученко, почему-то вдруг страшно замкнувшийся и безмолвный, где-то занятый неизвестным мне делом, а Вера была верховодом и душой кружка. В кружке были опять новые лица. Из отрывков разговоров, которые велись много осмотрительнее и серьезнее, чем в первые годы, я понял, что в Москве у них главный центр, а здесь, у Веры, лишь самое первое звено.
Революционное движение после студенческой истории развивалось с необыкновенной быстротой, а в салонах тетушки графини Кушиной и ей подобных все еще считали, что движения серьезного нет, а есть, как выражалась тетушка, «сплошные амуры безобразнейших синих чулков с бурсаками». Интересовались в свете больше всего внешней политикой. Европейские старички захлебывались от восторга при имени Бисмарка, твердя в сотый раз всем и каждому, что канцлер превратил Staatenbund в Bundesstaat.[18]
A y тетушки на столе в чудной ореховой рамке стоял наш посол барон Врунов, удостоенный этого отличия за находчивую поддержку, как выражалась тетушка, чести родины.
Когда в заседании лондонской конференции прусский уполномоченный возобновил давнее предложение Франции решить вопрос о пограничной черте в Шлезвиге между датчанами и немцами опросом населения, барон Врунов сказал корректно, но твердо:
— Было бы противно началам русской политики, чтобы подданных спрашивали, хотят ли они остаться верными своему государю.
И добавляла иронически тетушка:
— Смешно подчинять приговор правительств Европы мнению шлезвигской черни!
В конце пятой недели поста, через несколько дней после моего приезда в Петербург, я опять встретил у Веры того блондина с необыкновенным лицом.
Какие неопознанные психические силы стоят на страже нашего существа, которые при встрече с иным человеком, как бы угадывая роковое пересечение его судьбы с твоей, наполняют сердце необъяснимым ужасом? Впрочем, после встречи с черным Врубелем и разъяснения его схемы эволюции мира я могу формулировать.
Ужас испытывает каждый, кто связан с судьбой числом двенадцать при встрече с единицей.
Я был одним из многих, а тот человек с необычайно светящимися лаской глазами был единицей.
В эту встречу меня поразил его донельзя измученный вид: впалые щеки, чахоточный румянец, светлые волосы без блеска, мертвыми прядями прижатые к вискам.
— Вы больны? — спросил я его.
— Я только что из больницы, — отозвался он своим ослабевшим, глухим голосом, — и на самом деле я плохо оправился.
— Тогда отложить? — зорко глянула Вера, услышав разговор.
— Нет, откладывать дольше нельзя, — сказал он твердо, — моя чахотка не ждет, у меня сил будет все меньше… — Он говорил про себя, как говорит машинист про свою машину.
— Главное ваше дело, Вера Эрастовна, через месяц отпечатать воззвания. Поспеете?
— Отпечатаю и привезу… Но — вы обещайте мне, что дождетесь меня и что еще мы увидимся.