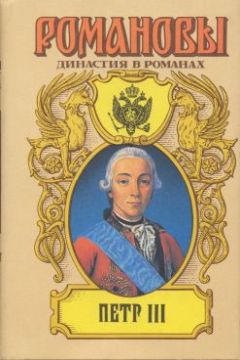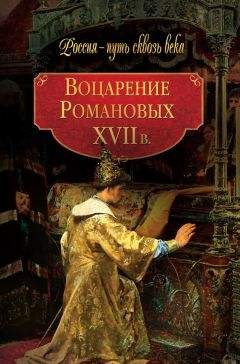– Я свободен! – громко кричал он. – Я свободен! Мне уже не нужно боязливо смотреть вниз; все они – мои подданные, все они должны повиноваться мне, благодарить меня, если я соизволю оставить им головы на плечах.
Посреди комнаты, возле которой помещалась отделённая лишь портьерой спальня, стоял большой, покрытый зелёной скатертью стол, на котором находилась модель крепости; возле неё виднелись ряды тонко сработанных, с палец величиной, солдатиков, расположенных различными группами, точно в игре для детей.
Пётр Фёдорович, останавливаясь пред этим столом, воскликнул:
– Здесь до сих пор было моё царство; здесь только мог я разбирать уроки великого короля Фридриха. А они называют это глупой игрой и пожимают плечами!.. Но теперь этому настанет конец, – воскликнул он, дрожащими руками опрокидывая фигурки солдат, – я более не пленный великий князь, играющий в куклы; я – император, ведущий армии в бой. Но они должны видеть, что я кое-чему научился благодаря этой высмеиваемой ими игре!.. Школа великого короля должна дать свои плоды в русской армии. Я добьюсь того, что мои солдаты не будут уступать ни в чём воинам короля Фридриха и будут побеждать под моей командой. Да, да, – произнёс он, глядя на одну из фигурок, – такая форма и должна быть введена; я введу этот покрой в армии; лишь когда моя армия не будет уступать прусской, тогда король Фридрих окажет мне честь и разрешит мне надеть прусский мундир, который я носил уже, будучи принцем; а затем, – воскликнул он с радостно прояснившимся лицом, – он даст мне чин в своей армии, хотя бы полковника. Итак, теперь мне нечего бояться; теперь я могу свободно, пред лицом всего света воодушевляться примером великого вождя прусского народа, стоящего выше Цезаря и Александра, Солона и Ликурга.[10]
Он прошёл в свою спальню и вынес из запертого на ключ шкафа поясной портрет прусского короля Фридриха в натуральную величину, вставленный в рамку чёрного дуба. Этот портрет был привезён однажды императрице Елизавете Петровне; она поглядела на него одну минуту, а затем приказала унести его прочь и пожелала, чтобы он никогда не попадался ей на глаза. Пётр Фёдорович велел перенести его потихоньку к себе и спрятал его в потайной шкаф в своей спальне, чтобы в моменты полного уединения наслаждаться видом высокочтимого им короля. Он перенёс теперь этот портрет в свою приёмную комнату и, став ногой на кушетку, собственноручно повесил его на стенку, на место портрета Елизаветы Петровны, занимавшего до сих пор это место в роскошной золотой раме, увенчанной императорской короной; этот последний портрет он небрежно отодвинул в угол.
Он стоял ещё на диване, погрузившись в созерцание умных, насмешливых черт и проницательных глаз Фридриха Великого, как вдруг дверь его комнаты тихо растворилась Пётр Фёдорович обернулся, встревоженный шорохом звякнувшего замка и лёгким шагом, и остался стоять совершенно поражённый, когда увидал пред собой пажа, дошедшего до средины слабо освещённой комнаты. На одно мгновение в его возбуждённом мозгу мелькнула шалая мысль – не было ли сном его восшествие на трон, не ожила ли государыня и не несёт ли ему этот проникший сюда таким таинственным способом паж одно из тех оскорбительных и обескураживавших посланий его тётки, которые он выслушивал неоднократно в этой комнате с видимой покорностью и проклятиями в душе.
– Это кто такой? – спросил Пётр Фёдорович, наполовину грозно, наполовину испуганно – Кто смеет входить ко мне, если я отпустил всех и желаю быть один?
Он сошёл с дивана и остановился с протянутой вперёд, как бы останавливающей рукой. Он не осмеливался выгнать загадочно-молчаливую фигуру пришельца, так как в нём уже зарождалась мысль, что, несмотря на его восшествие на престол, против него составляется заговор, и что и его постигнет тайная гибель, которая не раз уже под покровом ночи приближалась к русским властителям.
Он уже открыл рот, чтобы позвать на помощь часовых из передней, но тут паж медленно вступил в полосу света от горевшего на столе канделябра, скинул с себя тканый золотом кафтан и снял с головы четырёхугольную меховую шапочку Пётр Фёдорович почувствовал радостное облегчение, узнав в паже графиню Елизавету Воронцову. Когда она сбросила кафтан, её тело оказалось покрытым одной только тонкой батистовой рубашкой, открытой на груди, с короткими кружевными рукавами, позволявшими видеть её слегка худощавые и желтоватые, но стройные и хорошо сформированные руки, её роскошные волосы, которые сдерживались под шапкой, упали теперь на плечи и своими волнами наполовину скрыли бледное лицо графини, так что оставались видны лишь её тёмные глаза.
Графиня в этот момент была, пожалуй, красивее и соблазнительнее, чем когда-либо. Верхняя часть её тела сверкала женственной красотой и прелестью, между тем нижняя от пояска до пяток была одета в широкие брюки и изящные, доходящие до колен сапоги пажа. Эта полумужская, полуженская фигура имела на себе отпечаток таинственной прелести и стушёвывала слегка жёсткие, строгие черты её лица. Рот графини болезненно исказился, большие, лихорадочно блестящие глаза смотрели на Петра Фёдоровича с отчаянной мольбой; она скрестила на груди свои обнажённые руки.
– Романовна? Ты здесь? – спросил Пётр Фёдорович, недовольно хмуря лоб, хотя в его взгляде, которым он охватил фигуру графини, читалась сдерживаемая радость.
Воронцова нежным голосом промолвила.
– Мой дорогой повелитель, заботы и печаль которого я имела право рассеивать, когда он ещё стонал под бременем тирании, оттолкнул меня от себя с тех пор, как его голову украсила российская корона, он не звал меня к себе с тех пор, как был провозглашён повелителем России. Весь мир радуется новому государю; я одна должна исходить слезами. Я возвращаюсь памятью к тем дням, когда осмеливалась быть другом ничтожного, преследуемого принца, образ которого я не могу изгладить из своего сердца даже под риском навлечь на себя грозу гнева своего повелителя.
Пётр Фёдорович вздохнул – в его душе горела страсть. Он подошёл к графине и протянул ей руку.
– Да, да, Романовна, – проговорил он, почти испуганно поглядывая на дверь, – ты была моим верным другом в то время, когда я был беспомощен и беден; я никогда не забуду этого. Будучи великим князем, я мог выбирать себе друзей. Но теперь, видишь ли… – неуверенно начал было он.
– Но теперь, – с пылающим взором прервала его графиня, – теперь императору воспрещают избирать своих друзей по собственному желанию. Ему не нужно друзей, говорят ему, так как он – господин, имеющий власть отдавать всем приказания, и против него бессильны все его враги. Но вас обманывают. Император будет иметь тысячу врагов там, где великий князь имел одного. Все будут выказывать ему чувства верности и преданности, но никто не будет иметь эти чувства в сердцах. Однако я не могу ещё забыть в императоре былого великого князя, моего друга, – продолжала она с чарующей нежностью, ещё крепче сжимая своими пылающими пальцами руку Петра Фёдоровича и подходя к нему настолько близко, что он почувствовал теплоту её тела, – да, моего друга; он был всё для моего сердца, и утешать и веселить его было моим высшим блаженством… О, я с радостью сорвала бы с вашей головы корону, потому что она похищает у меня того, кто спалил страстью мою душу.
– Романовна, Романовна! – пробормотал Пётр Фёдорович, в то время как Воронцова подступила к нему так, что её колеблющаяся грудь коснулась его груди. – Подумай только о том, что эта корона делает меня повелителем всех и вся.
– Повелителем! – с презрением воскликнула Елизавета Романовна. – Разве повелитель тот, кто позволяет другим принудить его к тому, чтобы отталкивать своих друзей? разве властитель тот, кому запрещают защищать тех, кто его любит? Нет, нет! Император оказывается беспомощнее великого князя, так как великий князь был, по крайней мере, господином своего сердца.
В глазах Петра Фёдоровича сверкнули гнев и оскорблённая гордость; затем он снова взглянул на прильнувшую к нему графиню.
– Как? – воскликнула она, с горячностью отталкивая его назад. – Неужели вы добровольно разлучитесь со мной? Разве ваше сердце не принадлежит более мне? Неужели вы уже забыли ту, которая была для вас всем в дни забот и унижений? Вот это-то, – угрожающе воскликнула она, – я и должна знать, потому-то я и пришла сюда переодетой; только это переодевание и дало мне возможность проникнуть сюда. Дайте мне ответ! У императора должно хватить смелости хотя бы на то, чтобы сказать правду. Ответьте же мне! Потеряла ли я вашу дружбу, вашу любовь? Если да, то я не обеспокою вас впредь ни единым словом! Вы навсегда освободитесь от меня, я исчезну во мраке и уединении для того, – простонала она, вся сгибаясь точно под неизмеримой тягостью, – чтобы молиться о славе и величии императора, которого я, несмотря ни на что, не могу забыть, чей образ не могу вырвать из своего сердца.