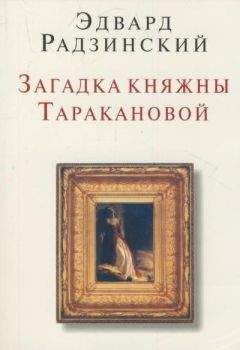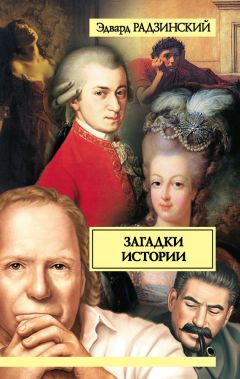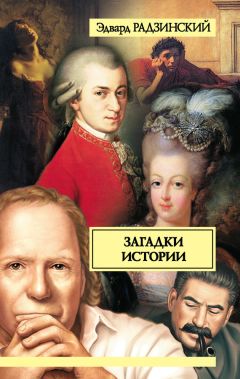– Надеюсь, что вы прочли сии статьи. И, как милостиво указала государыня, они напрочь уничтожают ваши ложные выдумки. Вы приготовились к ответу?
– Да, князь, совершенно.
– Итак, статья первая…
– Не будем тратить времени, князь. У меня все те же ответы на все статьи. О рождении своем не ведаю. И наследницей престола не называлась.
– Но побойтесь Бога. Вот смотрите, пункт седьмой: «Если сличать стиль и слог упомянутой женщины со стилем и слогом писем, захваченных у нее…»
– Не тратьте времени, князь. Ответ будет все тот же.
– Но так невозможно! Невозможно! Вы лжете на каждом шагу.
– В чем же моя ложь? – открыто издеваясь, спросила Елизавета.
– Да во всем. Даже в самых мелочах. И сейчас я вам это докажу!
– Жду, и с большим интересом.
– Например, вы заявляли, что понимаете по-арабски и по-персидски и воспитывались в Персии.
– Именно так.
– Напишите несколько слов на этих известных вам с детства языках.
По знаку князя Ушаков положил перед Елизаветой лист бумаги. Она усмехнулась и быстро написала на бумаге какие-то знаки.
– А теперь пригласите господ в камеру, – приказал князь Ушакову.
Ушаков ввел в камеру двух старцев.
– Этот господин из Коллегии иностранных дел… А этот господин из Российской Академии наук… – объявил торжественно князь принцессе. – И оба они в совершенстве владеют восточными языками.
После чего Ушаков положил перед ними бумагу, написанную принцессой.
– Что это? – обратился Голицын к ученым.
Те внимательно смотрели на бумагу и молчали.
– Это арабский или персидский? – строго спросил князь.
– Это никакой, – сказал наконец один из них, – это абракадабра.
Елизавета, усмехаясь, наблюдала всю эту сцену.
– Почему вы молчите, сударыня, и что это все значит наконец?
– Это значит, – спокойно ответила принцесса, – что спрошенные вами люди не умеют читать ни по-персидски, ни по-арабски.
– Все! Довольно! – в бешенстве поднялся Голицын. – На хлеб! На воду! И почему у нее тонкое белье в постели? Это что у нас тут – будуар или государева тюрьма?
«После того издевательства я не ходил к ней в камеру. Пусть поживет в строгих мерах: может, спеси-то поубавит! А тут еще и великие празднества подошли по случаю заключению мира с турками. Праздновать у нас умеют и любят. Я получил от государыни шпагу с бриллиантами и надписью: «За очищение Молдавии до самых Ясс». Наши блестящие модные насмешники, конечно, шутить по сему поводу изволили. Пусть шутят. Прибаутки-то их забудутся, а шпага к вящей славе останется. Все это время она писала самые жалостливые письма…»
В углу сидят караульные. На кровати, покрытой грубым одеялом, лежит Елизавета. В камере полутьма.
Входит Голицын, за ним Ушаков. Караульные молча поднимаются, выходят.
– Принеси свечей! – приказал князь Ушакову.
– Не надо, – раздался голос с постели. – Мне не хочется, чтобы вы меня видели. Простите, что лежу: проклятый кашель изнурил… да и в моем положении ходить не просто.
Голицын уселся и сказал в темноту:
– В последний раз, сударыня. Матушка императрица надеется, что одумаетесь. И расскажете всю правду.
– Странные тут люди, – задумчиво сказала она из темноты. – Я вам искренне предлагаю… даже умоляю… разрешить мне написать в Европу моим знакомым, чтоб попытаться выяснить эту самую правду. Почему вы не даете мне возможности им написать? Чего вы боитесь? Что они организуют мой побег? Но я никогда на это не соглашусь. Этого не позволит моя честь. И главное… почему ваша государыня не хочет поговорить со мной? Почему меня все время смеют упрекать во лжи и хитрости? Если б была хитра, разве поддалась бы я так слепо воле графа? Он! Он ввергнул меня в погибель! – Она кричала.
– Вы уже говорили все это, сударыня.
– Ах, князь, опять вы начинаете сердиться. Мне всегда больно, когда сердятся люди, которых я люблю. Поверьте, мое доверие к вам не имеет пределов. И в доказательство я хочу просить вас передать письмо императрице.
– Опять!
– Да вы не бойтесь, вы уже выучили меня писать вашей государыне, – засмеялась она в темноте и начала читать письмо: – «Ваше императорское величество, находясь при смерти у ног Вашего величества, излагаю я в объятиях смерти плачевную мою участь. Мое положение таково, что природа содрогается. Я умоляю Ваше величество… – Она помедлила и продолжала: – Во имя вас самих благоволите оказать милость и выслушать меня. Да смягчит Господь ваше великодушнейшее сердце, и я посвящу остаток моей жизни вашему высочайшему благополучию и службе вам. Остаюсь нижайшая, послушная и покорная, с преданностью, к услугам».
Она замолчала и протянула письмо из темноты. Голицын торопливо взглянул на письмо. Там не было ни подписи, ни даты.
«Слава тебе господи! Хоть этому тебя действительно научили, голубушка!»
– А что значит сие: «Во имя вас самих благоволите выслушать»?
– Это то самое и значит, князь: «Во имя вас самих», – твердо и жестко ответил голос с кровати.
– Да, письмо не много лучше предыдущих. Дерзости по-прежнему… – Он вздохнул и поднялся.
– Ах, князь, как удалось вам сохранить доброе сердце? Бог благословит вас и всех, кто вам дорог, но помогите мне. Я изнемогаю. День и ночь в моей камере эти люди. Это при нынешнем-то моем положении. И главное: не с кем словом перемолвиться. Они не понимают меня. И эта страшная болезнь…
Добрейший князь только махнул рукой и вышел из камеры. У дверей камеры уже ждал его обер-комендант крепости.
– Вернуть хорошую пищу… Вывести людей… И вернуть камер-фрау! – не дожидаясь приказа, находчиво отрапортовал комендант.
Коломенское. Девять часов утра.
В кабинете императрица и князь Вяземский.
– Князь Александр Михайлович Голицын пишет, что она при смерти, – сказал Вяземский.
– Донесения князя напоминают стихи, – усмехнулась императрица. – Как он там написал? «Она возбуждает в людях доверие и даже благоговение», – усмехнулась императрица. – Это о бесстыжей беременной развратнице!.. Но пока он сочиняет эти стихи, дело не движется. Вместо раскаяния нам предлагают пустые просьбы от наглой бестии.
Пусть князь объяснит ей в последний раз: никогда я с ней не встречусь. Кстати, коль она так больна и, как он пишет, «в объятиях смерти», пусть князь уговорит ее причаститься. – Императрица посмотрела на Вяземского.
– Послать к ней духовника и дать приказ, чтоб тот духовник довел ее увещеваниями до полного раскрытия тайны. О нижеследующем донести немедля с курьером, – тотчас сформулировал Вяземский.
«Слава богу, хоть этот не поэт!» – усмехнулась Екатерина.
В кабинете Голицына Ушаков докладывал князю:
– В Казанском соборе нашли. Священник Петр Андреев. Он и по-немецки, и по-французски понимает.
– Присягу заставь принять о строжайшем соблюдении тайны и ко мне завтра позови.
Вошел камердинер и объявил:
– Курьер из Москвы от императрицы…
Голицын сидел за столом с письмом императрицы в руках.
«Который день подряд занимается матушка сим делом…»
Голицын, бормоча, с изумлением читал письмо:
– «Не надо посылать к ней никакого священника и более не надо допрашивать развратную лгунью. Вместо того предложить поляку Доманскому рассказать всю правду. И коли он правду расскажет о бесстыдстве сей женщины, присвоившей себе царское имя, разрешить ему обвенчаться с ней. После чего, – с величайшим удивлением прочитал князь, – дать дозволение немедля увезти ее в отечество, чем и закончить все дело. Добейтесь от нее согласия обвенчаться с поляком, чтобы раз и навсегда положить конец и будущим возможным обманам».
Князь торопливо позвонил в колокольчик. Вновь появился камердинер.
– Закладывать в крепость, – приказал князь. И добавил, обращаясь к Ушакову: – Смилостивилась над разбойницей матушка!
Он продолжал дочитывать письмо:
– «Коли не захочет бессовестная лгунья венчаться с Доманским, пусть сама откроет бесстыдную свою ложь. И, как только откроет, что бессовестно присвоила себе чужое имя, дать ей незамедлительно возможность возвратиться в Оберштейн и восстановить свои отношения с князем Лимбургом. Коли упорствовать будет и предложение сие не примет, объявить ей вечное заточение. Сии предложения от себя делайте, а имя наше ведомо ей быть недолжно».
Потрясенный Голицын садился в карету, изумленно бормоча:
– Это что же такое? Полное помилование?!
Приехав в крепость, князь пришел в камеру Доманского.
Елизавета по-прежнему лежала в темноте на кровати. Теперь в камере не было караульных. Рядом с кроватью молча сидела камеристка Франциска, когда торопливо вошел князь. Он был один, без Ушакова. По знаку князя камеристка вышла из камеры.
– Хоть вы по-прежнему бессовестно запирались, но радуйтесь! Я принес вам необычайное известие.
– Я слушаю вас, князь, – равнодушно ответили из темноты.
– Сватом себя чувствую, – засмеялся князь. – Сейчас сюда приведут приближенного вашего Михаила Доманского. Он безмерно любит вас, и он просит вашей руки.