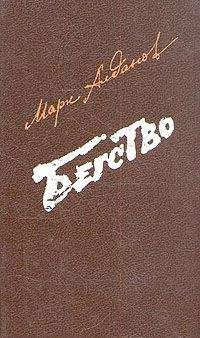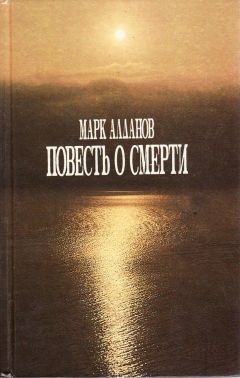— А вы как сюда пожаловали, Платон М-м-м?.. — опять перебив Кременецкого, спросил Нещеретов Фомина. Тамара Матвеевна обменялась с мужем возмущенным взглядом. — Славную взяточку в Орше дали, а?
— Нет, у меня сюда командировка на один месяц, — ответил Фомин.
— Что? Только на один месяц? — в один голос спросили Семен Исидорович и Тамара Матвеевна. Им стало совестно, что они с самого начала не расспросили как следует своего друга, зачем он приехал. «Значит, можно будет послать с ним посылку для Мусеньки», — тотчас подумала радостно Тамара Матвеевна. И хотя она очень любила Фомина, ей захотелось, чтоб он уехал назад в Петербург возможно скорее.
Фомин объяснил, по какому делу его командировали на месяц в Киев (он, однако, смутно чувствовал, что постарается продлить командировку: уж очень здесь было хорошо после Петербурга). Узнав задачу командировки, Нещеретов расхохотался.
— Ох, уморил, не могу, — сказал он, наливая себе пива. — Я тоже об этом слышал. Они требуют, чтобы сюда доставили, во-первых, картины всех художников, которые родились на Украине, а, во-вторых, все картины на украинские сюжеты. Так-с!
Фомин поднял брови.
— Это серьезно? Что ж, тогда и репинских «Запорожцев» прикажете сюда перевезти?
— А как же? Всецело и всемерно, — весело повторил Нещеретов.
— Интересно, кто это «они»? — иронически спросил Кременецкий. — Если вы имеете в виду украинцев вообще, то, ведь, насколько мне известно, вы и сами хлiбороб, Аркадий Николаевич?
— Временный, как ваше бывшее правительство. Я тимчасовый хлiбороб. Мне на одной Украине тесновато.
— Откровенные речи приятно и слышать. Так и будем иметь в виду.
— Так, почтеннейший, и имейте в виду, — подтвердил Нещеретов. Однако Фомину показалось, что он не слишком доволен произнесенными сгоряча словами.
— Затем по существу, — продолжал Семен Исидорович. — Повторяю, я отнюдь не разделяю крайностей молодого национального самосознания, вполне здорового и разумного по содержанию, но чрезмерно обостренного по форме… Добавлю, обостренного кем? Разумеется, нашим старым строем, который во имя своего Молоха давил в корне все живое и угнетал украинскую национальность на наковальне гнилой государственности… Я не сторонник крайностей. Там, где патриотизм переходит в узкий национализм, мне с ним не по пути! — энергично сказал он. Тамара Матвеевна опять с гордостью взглянула на Нещеретова и Фомина. — Однако, посмотрим на вещи шире, Платон Михайлович, — сказал Кременецкий, также демонстративно обращаясь только к Фомину. — Посмотрим на вещи шире. Разумеется, Репин гений и, как таковой, принадлежит всему культурному человечеству. Он соль земли, а солью питаются все народы. (Семен Исидорович сделал паузу). Однако, если шедеврам французских художников, естественно, висеть в Лувре, а шедеврам итальянских в Ватикане, то почему отрицать за молодой Украиной право на то, чтобы дорогая ей картина великого мастера, родившегося на украинской земле, картина, написанная на сюжет из украинской истории, висела в Киеве, а не в Петрограде и не в Москве, — закончил длинную фразу Семен Исидорович, не помнивший точно, где именно висят «Запорожцы».
— Мы как раз перед войной хотели просить Репина написать портрет Семена Исидоровича, — сказала Тамара Матвеевна. — Мне все художники говорили в один голос: у него замечательно характерная голова.
— Так я и пропал для потомства, — с улыбкой произнес Кременецкий.
— Позвольте, Семен Исидорович, — начал было Фомин. Но он не успел возразить Кременецкому. К их столику подходил еще петербургский знакомый: журналист дон Педро.
— Какая приятная встреча, — сказал он, здороваясь с обедавшими. — Так и вы здесь, Платон Михайлович? (дон Педро, в отличие от Нещеретова, твердо помнил имена и отчества всех бесчисленных людей, которых когда-либо встречал). — Положительно вся Россия переселилась в Киев!.. Давно ли вы из Петрограда?
— Сегодня приехал.
— Вот как! Ну, расскажите, ради Бога, как же там живется?
— Подсаживайтесь к нам, — милостиво сказала Тамара Матвеевна, помнившая, что дон Педро в свое время писал отчет об юбилее Семена Исидоровича.
— Спасибо, меня ждут, — ответил Альфред Исаевич, однако тотчас сел. — Разве на одну минуту… Так как же там в Петрограде живется?
— Ничего… Как кому, — ответил Фомин. Он решительно не желал в третий раз рассказывать, как в Петрограде живется. — Во всяком случае много хуже, чем в Киеве. А вы здесь обосновались?
— Хочет газету издавать, — пояснил Кременецкий.
— Хорошее дело.
— Дело-то хорошее, но реализировать при создающейся конъюнктуре трудно… Вот получите тысяч полтораста с Аркадия Николаевича, какую газету я вам смастерю, — шутливо добавил дон Педро.
— Демократическую? — грубоватым тоном спросил Нещеретов.
— А как же…
— Ищите другого дурака.
— Вы, может быть, считаете, что я социалист? — спросил обиженно Альфред Исаевич.
— Чтоб да, так нет?
— Имейте в виду, Платон Михайлович, — сказал Кременецкий, — здесь теперь социалист ругательное слово. Tempora mutantur![54] Между тем единственная возможная ориентация сейчас, конечно, на трудящиеся слои населения…
— На працюючi люд, — вставил Нещеретов.
— Да, именно на працюючiй люд, как вы изволите шутить неизвестно над чем, господин хлебороб… На трудящиеся слои и на благоразумные элементы социализма.
— Во главе с бароном Муммом и фельдмаршалом Эйхгорном.
— Удар не по коню, а по оглобле! Мы-то немецкими руками делаем украинскую политику. А вот ваши хлеборобы, они действительно опираются на немецкие штыки и только на немецкие штыки!
— Господа, довольно о политике, — сказала рассеянно Тамара Матвеевна. «Колбасы я ему дам фунтов десять, — соображала она. — Какао минимум три фунта… Потом альбертиков, она их очень любит… Муки… Если выйдет даже пуд, он для нас должен это сделать…»
Альфред Исаевич поднялся.
— Ну, до свиданья, господа.
— Куда вы? Ни одной новости не рассказали! Какой же вы журналист? — сказал Кременецкий. — Что, поведайте нам, есть ли уже у хлеборобов какой-нибудь завалящий гетман?
— Это надо узнать у Аркадия Николаевича, — с тонкой улыбкой ответил дон Педро. — Но по моей личной информации кандидат есть… Сюда приехал некто Альвенслебен, из очень важной прусской семьи, не то граф, не то князь… Я знаю из верного источника, что его делегировали сюда германские коннозаводчики, у них есть свой кандидат в гетманы, — чуть понизив голос, сказал Альфред Исаевич тем же таинственно-уверенным тоном, каким он прежде говорил о самых секретных планах европейских государственных людей или о том, что Гинденбург готовит прорыв двенадцатью дивизиями.
— Позвольте, при чем тут германские коннозаводчики?
— Вы не знаете, это очень мощная группа! У них есть прочные связи с Россией, уж вы мне поверьте… Я это знаю от самого майора Гассе.
— Так кто же этот кандидат?
— Один генерал… Богатейший! — восторженно сказал дон Педро. — И у него есть, так сказать наследственные права. Ну-с, прощайте, господа, — добавил Альфред Исаевич, любивший исчезать после эффектного сообщения.
— Постойте, расскажите подробнее… Да куда вы спешите? Посидите!
— Не могу, у меня сейчас одно заседание.
— Что еще? Или вы тоже гетмана подыскиваете?
— Нет, это по нашим, сионистским делам, — скромно ответил дон Педро.
— Разве вы сионист? — одобрительным тоном спросил Нещеретов.
— Я всегда интересовался, как же. Но теперь это стало в реальную плоскость, после декларации Бальфура.
— После какой декларации?.. Впрочем все равно… Так вы уезжаете в Палестину? — спросил Нещеретов еще более благосклонно. В его тоне явно слышалось: «скатертью дорога».
— Может быть, может быть, — опять несколько обиженно ответил Альфред Исаевич. — Мне предлагают поездку в Америку. Если не удастся сорганизовать здесь газету, я верно уеду. Но это будет зависеть от событий… До свиданья, господа. Очень интересно то, что вы рассказывали, Платон Михайлович, — добавил он, хотя Фомин ничего не рассказывал. — Вечером в «Пэлл-Мэлл» не идете? Теперь у нас все ходят в «Пэлл-Мэлл», — пояснил он. — Отличное кабаре.
— Ах, мы с Семеном Исидоровичем на днях были и нам совсем не понравилось. Провинция! — сказала Тамара Матвеевна.
— Разве я говорю, что не провинция! Конечно, это не «Летучая Мышь», но все-таки весело… До свиданья, господа.
— Хорош гусь! — сказал Нещеретов, когда дон Педро отошел.
— Все это очень характерно, — ответил озабоченно Семен Исидорович. — Подавляющиеся веками национальные элементы поднимают голову, центробежные силы растут за счет сил центростремительных…
«Значит, один украинский самостийник, другой прислужник немцев, а третий сионист, — раздраженно думал Фомин, впервые в жизни чувствуя в себе задетым великоросса. — Как-нибудь при случае мы это вспомним…»