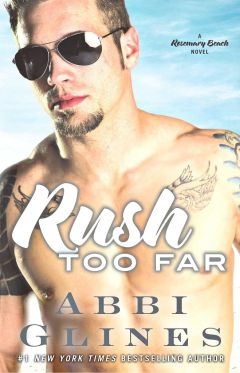По ночам он жался к маленькому костру; звук шагов мог означать приближение смерти, и он держал мушкет под рукой; согревал озябшие пальцы, заворачивался в одеяло и лежал, глядя на холодное зимнее небо над головой. Он разыскивал место под названием Валли-Фордж, и лишь один из всех, у кого он спрашивал дорогу, смог сказать ему хотя бы что-то, присовокупив:
— Попадешь туда — не обрадуешься, помяни мое слово.
На одну благословенную ночь его приютила в своем доме чета квакеров: большой, плотного сложения мужчина с мягкою речью и женщина с младенчески-невинной улыбкой — он порывался благодарить их, сказать им, кто он такой, но в ответ услышал от хозяина:
— Не надо, ты — путник, холодный и голодный, с нас этого довольно. И если ты из этих самых, то держи это при себе.
— Не любите вы континентальцев?
— Мы любим человека, а кровопролитие, смертоубийство и страданья — ненавидим.
— Разве сражаться за свободу значит совершать смертоубийство?
— Ты обнаружил бы в тысячу крат больше свободы в самом себе.
Уходя, Пейн сказал:
— Мне бы дорогу к лагерю…
— В Валли-Фордж?
— Ну да.
— Сам найдешь. Господь избрал место погибели на земле. Смотри на небо, узришь Диавола — значит, там оно и есть.
И вот — Валли-Фордж. Когда он добрался туда, смеркалось, и путь ему преградил часовой, закутанный в одеяло. Мост, перекинутый через речку Скулкил, розовое небо над заснеженными холмами. Ряды блиндажей там и сям, словно грязная шнуровка: снизу — яма в земле, сверху — бревна. На обледенелом плацу развевался флаг. Горели костры; возле них, на фоне огня, двигались темные фигуры. Холмы выпирали из земли, точно голые мускулы; безлистые деревья раскачивались на ветру.
— Я — Пейн, — сказал он часовому, и солдат хохотнул, закашлялся, щеря желтые зубы, довольный хилым каламбуром.
— Да кто же из нас не пень, гражданин.
— Том Пейн.
Часовой порылся в памяти, нашел ниточку, покачал головой:
— Здравый Смысл, что ли?
— Да. Где у вас генерал?
— Вон там… — Потеряв интерес, солдат опять съежился в коконе одеяла.
«Вон там» повело его за ряды блиндажей, мимо орудийного окопа, мимо бревенчатого госпиталя, где стонали, ныли, вскрикивали раненые; мимо новых часовых, которым он отвечал все то же:
— Пейн.
— Проходи.
Он прошел не меньше мили — сперва по лагерю, потом вдоль реки, где слева нависали над головою холмы — когда увидел, наконец, в потемках сложенный из грубого камня дом, в котором находился штаб Вашингтона. Над трубою курился дымок, светились окна; у передней и задней двери стояло по часовому. Его впустили. В сенях его встретил Гамильтон, худой, с запавшими глазами, на много лет старше того мальчика, каким его видел Пейн последний раз, — узнал бывшего корсетника из Тетфорда и улыбнулся, кивнул.
— Добро пожаловать.
Пейн подышал себе на руки, попробовал улыбнуться в ответ.
— Славное у нас местечко, вам нравится? — спросил Гамильтон.
Что-то в его голосе заставило Пейна спросить неуверенно:
— А что, все хуже, чем выглядит со стороны?
— Это смотря что вам удалось увидеть.
— Я шел от моста.
— Тогда, значит, главные радости вас еще ждут впереди, — с горечью сказал Гамильтон. — Вам нужно пройтись по блиндажам, Пейн, — нужно сходить потолковать с людьми, хотя, вполне вероятно, вам перережут при этом глотку. Вы, верно, думаете, что уже видывали их во всей красе, но у вас тут выводится зверь еще не виданной породы. Что ж вы не спрашиваете, почему?
— Я знаю почему. — Пейн кивнул головой.
— Вот как, но вы же работали на этот наш поганый Конгресс. Известно им, что мы и голы, и босы, что пухнем с голоду, подыхаем от холода и болезней, гнием — заживо разлагаемся, слышите, Пейн?
Пейн, подойдя к нему ближе, ухватил его крепко за грудь мундира и спокойно сказал:
— Ну-ка возьмите себя в руки. Я даже не знаю, где сейчас находится Конгресс. Держите себя в руках.
Гамильтон хихикнул и судорожно глотнул.
— Простите меня. — Он снова хихикнул. — Заходите — он там.
— Соображать надо все-таки.
— Простите, — повторил Гамильтон.
Пейн вошел в комнату, и Вашингтон поднялся ему навстречу, сощурясь при виде нового лица; потом узнал и с улыбкой протянул ему руку. Еще больше постарел, отметил Пейн про себя, война из них, молодых, отчаянных, быстро делала стариков: и похудел, и удивительно казался домашним — без парика, в халате, в ветхой шапочке на голове; Пейн обратил внимание, что серые глаза его стали больше. Он искренне обрадовался, увидев Пейна, усадил его, заставил снять сюртук; потом очень немногословно описал ему напряженную, грозную обстановку в лагере, нехватку продовольствия, обмундированья, устрашающий рост венерических заболеваний, вызванный наплывом женщин — жен и маркитанток, — живущих с солдатами; ежедневное дезертирство, недостаток боеприпасов, возрастающее озлобление, даже среди самых надежных, из-за того, что им уже который месяц ничего не платят.
— Вот так, — негромко заключил Вашингтон. — Говорю вам, положение хуже, чем в прошлом году, а вы помните, каково тогда было. Если страна не поможет — мы не выдержим, определенно скажу вам, Пейн. Никому, кроме вас, сказать не могу, но нас вот-вот ждет конец, Пейн, — вы должны это знать. Добро бы по вине противника, но нет, по нашей собственной — и тогда революция канет в ничто, как дурной сон.
— Скажите, что я должен сделать?
— Поезжайте, обратитесь к Конгрессу, достучитесь до них. Обратитесь к стране, разбудите народ. Заставьте людей понять — объясните им!
— Я хочу остаться здесь.
— Не надо, Пейн. Здесь — сущий ад, и я не думаю, чтоб даже вы могли нам помочь. Езжайте уламывать Конгресс, а мы как-нибудь продержимся эту зиму — о следующей мне подумать страшно. Эту — выстоим как-нибудь.
Конгресс он застал в Йорке и принят был, как ни странно, вполне радушно. В его честь устроили обед, пришли Раш, Абингтон, братья Адамс, Ли, Хемингуэй и прочие. Почетным гостем был Том Пейн, свежевыбритый, в новеньком камзоле, в новых башмаках.
— То, что он видел и пережил, — сказал о нем Хемингуэй, — Да послужит нам всем воодушевляющим примером.
Упитанные благонамеренные мужчины налегали на красное винцо, рдеющие бутылки выстроились вдоль стола, как шеренги британских солдат. Джеймс Краншо — это в его прекрасно обставленном доме дан был обед — принимал гостей, как в прежние времена, собственноручно внес жаркое: цельного молочного поросенка. По оба фланга от поросенка располагались два пирога, с говядиной и с почками, а их, в свою очередь, обрамляли с флангов два блюда с жареными цыплятами. Приятно щекотал дух горячего хлеба, кукурузного и пшеничного, вазы в форме рогов изобилия были полны сушеных фруктов.
— Ибо земля сия изобильна, и пусть это знают повсюду.
Сидя рядом с Пейном, Краншо расписывал достоинства своего филадельфийского чиппендейла:
— Обратите внимание, сударь, на спинки стульев — простота линий, никаких украшений. Что до комодов, здесь, надо признать, ничто не сравнится с красным деревом ньюпортской работы, в особенности если это братья Гранни. Но ежели говорить о стульях, то пальму первенства надо отдать Филадельфии, куда до нее Англии, сударь, — решительно не то. В Новой Англии изделие оскверняют спинкою с перекладинами и камышовым сиденьем в деревенском стиле, у нас же каждый стул — это песня, безмолвный гимн красоте, шар и лапа достигли своего конечного предназначенья, прямоугольная орнаментика спинки по мягкости изгибов восходит к древнегреческой. Приходится ли сомневаться в будущем Америки?
Вот именно, подумалось Пейну.
Его потчевали едой и вином, с ним беседовали обо всем на свете, кроме войны. И только когда трапеза завершилась и подали флип, а дамы удалились в гостиную — перешли к делу. Теперь, за сигарами и нюхательным табаком, Пейна расспрашивали о том, что ему довелось увидеть в Джермантауне и Валли-Фордж.
— Но вы согласны, — подсказывали ему, — что руководство войсками было посредственным?
— Руководство у нас, господа, самоотверженное и отважное.
— Но бестолковое.
— Это неправда! Солдатами просто так, в два счета, не становятся. Мы не пруссаки, мы — граждане республики.
— И все же вы не станете отрицать, что Вашингтон постоянно терпит неудачи? То, что вы видели, по вашим словам, в Валли-Фордж, лишь окончательно подтверждает, что он для этой роли не годен.
— Не годен, стало быть, — проговорил Пейн задумчиво. — Ну, господа хорошие, да поможет вам Бог!
— А вы не сгущаете краски, Пейн?
— Я что-то не пойму, куда вы клоните, — сказал Пейн. — Избавиться, что ли, хотите от Вашингтона?
— Скорее, скажем так, действовать с ним сообща, — уклончиво отозвался Ли. — То, что сделал под Саратогой Гейтс, что он сумел целиком захватить в плен армию Бергойна, доказывает…