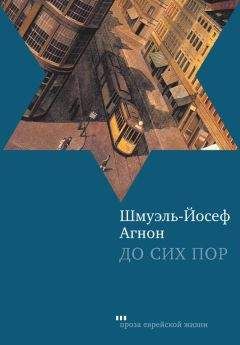Мы снова поднялись на тысячу и одну ступеньку и снова вошли в комнату, заполненную фигурами из камня и глины. Друзи усадил меня на один из еще не обработанных камней и сказал: «Прежде чем показывать вам свои работы, хорошо бы выпить кофейку». Он достал из шкафа электрический чайник и вмиг вскипятил в нем воду. Увидев недоумение на моем лице, он спросил: «Что вас удивляет?» Я рассказал ему историю своей хозяйки и ее собак. «Душа из них вон, из всех этих берлинских хозяек! – вскричал Друзи. – В жизни не пил у них кофе и куска хлеба у них не ел! И не в том дело, что они скупы, а в том, что назначают человеку время завтрака. Если хотите быть свободным человеком, назначайте себе время еды сами и не позволяйте другим вами распоряжаться. Кто чужим умом живет, своего не наживет».
Выйдя от Друзи, я немедленно пошел в магазин и купил электрический чайник. Наутро я вскипятил воду и приготовил себе чай, в котором наконец-то не было собачьих волос. И целых три дня подряд я сам готовил себе утренний чай, как делал это, бывало, в Стране Израиля, когда был сам себе хозяином и варил себе еду на маленькой спиртовке. Конечно, электричество не сравнить со спиртовкой – тут огня не видно, а там он виден, но кипяток – он и там, и тут кипяток.
На четвертый день чайник не включился и вода не вскипела. Я пошел спросить хозяйку, почему нет электричества. Меня встретил хозяин. «Эта сука ушла и не вернется до самого вечера, – сказал он. – А что до электричества, так она этим не только вам хотела нагадить, но и мне тоже. Знает, что у меня одно удовольствие – почитать поутру часок газету в постели и что при моих слабых глазах мне нужен для этого электрический свет, вот она и отключила электричество во всем доме. А сама ушла».
Мы стояли с ним рядом в коридоре, точно собратья по несчастью – он, которого жена лишила света, и я, которого она лишила кипятка, – смотрели друг на друга, и каждый жаждал от другого слов утешения. Не знаю, что он видел во мне. Но вот что видел я, глядя на него.
Мужчина среднего роста, рот окаймляют пушистые белые усы. Большие глаза полны грусти и смущения, ноги согнуты в коленях. Я не запомнил его имя, но помнится мне, что это было какое-то французское имя, из одного слога, и еще хозяин сказал, что он потомок гугенотов, бежавших из Франции из-за религиозных преследований. Его предки были выдающимися мастерами по изготовлению скрипок, и он тоже поначалу был скрипичным мастером. Но после женитьбы и рождения сына денег в семье понадобилось больше, а рука его стала уже не та, и он уже не был так точен в работе, как прежде. Поэтому он начал производить самые простые скрипки – для деревенских музыкантов и для скрипачей в дешевых ресторанах. И все тешил себя мыслью, что, когда сын подрастет и его уже не нужно будет содержать, он сможет вернуться к тем скрипкам, которые делал раньше. Сын вырос, кончил курс обучения и вышел, увенчанный званием дизайнера по интерьеру. Тогда мой хозяин снял другую квартиру, в которой была специальная комната для сына, потому что в наше время люди искусства должны показывать себя в просторных квартирах. Сын поставил у себя в комнате роскошную мебель собственного дизайна, разостлал на полу красивый ковер и стал поджидать клиентов, которые придут к нему с просьбой обставить им квартиры. Но вместо клиентов пришла война, и его забрали. И чем дольше длилась война, тем меньше оставалось в стране материалов, в том числе и тех материалов, из которых делают скрипки, а если мой хозяин и находил нужный материал и даже изготавливал новую скрипку, он не мог найти на нее покупателей, потому что молодые музыканты ушли на фронт, а у старых музыкантов уже были их старые скрипки. Он забросил свое ремесло, но другого заработка найти не мог. А тут все дорожает, и расходы растут, а эти женщины – они ведь не привыкли себе отказывать, тем более такая, как его жена, не из самых лучших женщин, прямо сказать. И вот он начал ходить по пивным барам, отводить душу за стаканом. Когда сидит человек среди себе подобных, он смотрит на них и размышляет над их делами. И вот как-то вечером мой скрипач приметил, что у хозяина пивной очень грустное лицо. И подумал: с чего это он так загрустил, вода в Шпрее закончилась, что ли? Это у него была такая шутка по поводу пива – что это не пиво, а вода на воде. Ну, как говорится, взгляд влечет к себе взгляд, а бывает, что и сердце влечет к себе сердце, вот и хозяин пивной учуял, что он на него смотрит, подошел и сел рядом. И пошел у них разговор по душам. Сидит рядом с ним хозяин пивной и рассказывает, что клиентов становится все меньше, да и те, что все еще приходят, долго не задерживаются, а парочки и вовсе не показываются. А почему? А потому что порядочная пивная держится на хороших музыкантах, а у него с тех пор, как его музыкантов забрали на войну, никакой музыки в пивной не слышно. Вот и нечего клиентам здесь у него искать. Тут мой хозяин ему говорит, этому хозяину пивной: «Может, я могу заменить твоих музыкантов?» А самому еще невдомек, что тут и заработок может быть неплохой. Принес ему хозяин пивной скрипку, он и заиграл. А после полуночи тот ему уплатил. Назавтра он уже сам принес свою скрипку и играл весь вечер, и похоже было, что голос его скрипки людям понравился, потому что хозяин пивной самолично поднес ему кружку пива и кусок кровяной колбасы и еще вдобавок щедро уплатил за игру.
Вот вроде появилась у него возможность перебыть эти тяжкие времена, да тут вдруг пришло известие о смерти сына. Трудно родителям пережить смерть сына, но если вместе, то легче все-таки беда, чем в одиночестве. Однако эта сука, его жена, не только что ему не помогает, но, напротив, все время припоминает ему его позор, что его предки были французы, а теперь вот их сын из-за французов как раз и погиб, на французском фронте. А сейчас у нее новый повод появился его мучить. Сын не выплатил столяру за работу, и тот хочет забрать свою мебель, а мамаша уже привыкла пользоваться сыновней мебелью и ни за что не хочет ее отдавать. И говорит ему: «Присягни на суде, что сам видел, как сын ему платил за мебель, и не дадут ему права ее у нас забирать». А он присягать не хочет, потому как все те, которые ложно на суде присягают, они потом за это платят, и деньгами, и собственным телом. И вообще, говорит он ей, чем тебе этот столяр согрешил, если он забирает свою мебель, – ему ведь не уплатили ни за работу, ни за дерево. Разве он торговец какой, который деньги зарабатывает, не прикладая рук? Он ведь такой же мастеровой человек, он каждый грош собственным трудом зарабатывает. Если, к примеру, говорит он ей, мы не вернем наследникам этот ковер, который наш сын взял в кредит у их отца, так этот ковер все то время, что наследники о нем не знают и не требуют назад, так и будет лежать у нас – ковру нет разницы, где лежать, в магазине, или на складе, или в комнате. Наследники и без него не обеднеют. Но тут ведь речь идет о вещах, которые сделал мастеровой человек, специалист, и если уж мастеровому человеку не платят за его труды, то хотя бы вернуть ему его работу обязаны. Вы, господин хороший, вы-то со мной согласны, я вижу, потому как вы, я так понимаю, тоже работяга, как я и как тот столяр. Просто мы работаем с деревом, а вы, я видал, вы трудитесь пером. А если ваш инструмент легче нашего, так ведь не по инструменту судят мастера, а по тому, что выходит из-под его рук.
До сих – рассказ моего хозяина. А теперь слова жильца. Стоим мы с ним вот так, вдвоем, в коридоре, собратья по беде, – один нашел жену, но неудачно нашел, а другой нашел жилье и тоже неудачно нашел. У обоих у нас предки были изгнаны из своей родной страны, только у одного предков изгнали религиозные фанатики, а у другого – злобные иноземцы. Один нашел кров в приютившей его стране и стал сыном народа, давшего ему кров, другой все еще мечтает вернуться в страну, из которой были изгнаны его предки. Я пригласил его к себе в комнату – раз и другой пригласил, но он так и не зашел. Наконец мы распрощались. Я пошел обедать, а он – кормить жениных собак.
Через несколько дней я пошел навестить Петера Темплера. Был второй день после субботы, тот день, когда хищникам в зоопарке не дают завтрак, и Петер был свободен до обеда. Мы сидели у него и говорили, как обычно, о животных, больших и малых. От одного животного к другому, дошли мы до тех львов, которых привезли из немецких колоний в Африке, и до главного из них – «Петерса-вешателя», которого сразила болезнь и на которого придется, видно, теперь махнуть рукой. Я не пытался утешать Темплера, но рассказал ему о моем знакомом Арзафе из Иерусалима – все твари живые его слушаются, и со всеми с ними он ухитряется жить в мире и согласии, кроме собак – этих он всегда гонит прочь, потому что, по его словам, у собаки нет ничего своего за душой, а все, что у нее есть, это не что иное, как то лишь, что смастерил в ней разум ее хозяина для своих собственных нужд, чтобы она, эта собака, была ему верна и всегда старалась бы приспособить свое мнение к его желаниям и ему угодить. От собак я перешел к хозяйкам собак, то бишь к хозяйке своей квартиры, которая выращивала собак на продажу, и так мы сидели и беседовали, пока не пришло время подняться. Мы поехали в его зоопарк, он вошел через главный вход, где ворота слоновника, заниматься своим делом, а я пошел дальше, куда глаза глядят, и шел, пока не обнаружил себя возле дома, где в минувшем году часто обедал. А поскольку обеденное время уже наступило и я проголодался, мне пришло в голову зайти и снова пообедать там.