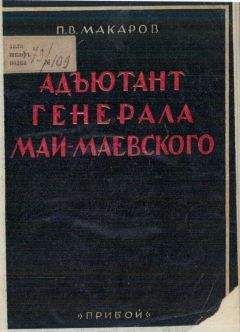Ознакомительная версия.
Тш-ш-ш. Семенов жив. И Унгерн жив. И они взяли Ургу. И Урга стонет от ужаса, который они в ней поселили.
Унгерн, ты черный вихрь, ты мчишься над Ургой и сметаешь все на своем пути.
Ты делаешь то, что делал до тебя всякий завоеватель.
Когда Рим завоевал Аларих, он поступал в Риме точно так же.
* * *
– Девочки, девочки!.. Собирайтесь, сегодня уходим из заведения пораньше… тебе что, жизнь надоела?!..
– Что ты. Глашка, брешешь?.. еще ж не поздно…
– Не поздно!.. Глянь, какая темень на улице, глаз выколи!.. А тебе ж, дура, на Маймачен добираться…
Танцовщица русского ургинского кабака «РЕСТОРАЦIЯ» Ирина Алферова смывала в комнатенке-гримуборной яркую краску, румяна и пудру со щек, стирала ваткой сурьму с век, салфеткой смазывала хищно-алую помаду с губ. Ее товарка, певичка Глафира, весьма знаменитая своим легким поведением – лучшей, искуснейшей «ночной бабочки», по слухам, в Урге было не сыскать, – квартировала у корейского доктора Пака; доктор Пак недавно потерял двухлетнюю малышку-дочь и тайно забальзамировал ее древним тибетским составом, которым тибетцы пропитывали тела умерших, чтобы сделать из них мумии. Доктор Пак ночами напролет сидел в маленькой каморке, где лежал гробик с мумифицированной дочерью. читал буддийские молитвы и плакал. Ему дела не было до какой-то русской певички Глафиры Афониной, снимавшей у него угол, – певичка хорошо платила ему, в месяц это получалось столько денег, сколько он брал за три, четыре вызова в богатые дома, и его это устраивало. Доктор Пак отчего-то, после взятия Унгерном Урги, пустил к себе в дом еще и еврейскую семью Корфов, торговцев отрезами и готовым платьем – старуха Корфиха, бабушки, нянюшки, молодые муж и жена, детки мал мала меньше – всего пятеро, – словом, целый кагал, и к чему это надо было? Правда, дом у доктора был большой, надо признать, дворец.
Глафира Афонина изумилась бы, если бы узнала, что доктор Пак пустил к себе семейство Корфов бесплатно.
Он спасал их от погромов.
– Всю краску смыла?.. ну ты и копуша, ма шер…
– Что я, с такой размалеванной мордой на улицу появлюсь?!..
– А я вот появлюсь, – равнодушно, нагло протянула, как киской мяукнула, Глафира, подперев кулаком подбородок и влюбленно рассматривая себя в зеркало, в старое ресторанное трюмо, – самое оно, подруга, мужчины знаешь как на румяна клюют?.. Румяная шлюха – значит, хорошая шлюха, здоровая шлюха, страстная шлюха. Сил много, в постели чудеса покажет. Ты умеешь показывать мужикам в постели чудеса, дурочка моя?..
Глафира оторвалась от зеркала и бросилась на шею Ирине. Та отбивалась:
– Фу, тише, флакончик с духами опрокинешь, слониха!.. Из самого Парижа выписаны…
Глафира оттолкнула танцовщицу, еще покрутилась перед трюмо, накинула на плечи соболью шубку. Ирина смерила ее завистливым взглядом. Шикарно одевалась, продажная стервь, клиентов обдирала, как липку, себе ни в чем не отказывала. Как она беспокоится! Боится темноты, да, в Урге бесчинствуют то недобитые китайцы, то солдатики барона Унгерна, у них, видать, глаза разгорелись на дармовщинку, на еду в лавках, на дешевых баб в кабаках и в тайных борделях… И эти погромы, эти чертовы еврейские погромы… Говорят, этот барон Унгерн – ненавистник евреев. А сам-то, сам-то! Что за фамилия?.. небось, еврейская… просто, слухи ходят, он жесток до безобразия, и ему в лапы лучше не попадаться… ему и его солдатам…
– Идем, идем!.. Хватит охорашиваться!..
– Да уж, тянешь меня, как на верблюжьем аркане… иду…
Девушки оделись, надвинули на брови модные меховые шапочки, выбежали в темноту и вихрящийся снег. На улицах уже никого не было. Урга словно вымерла. Ни повозок, ни авто, ни конного дозора. Мертвая тишина. И колючие звезды в черном дегте неба.
– А это что, Глашка, правда, что Унгерн женщин не любит?..
– Правда. – Глафира закрыла от холода щеку отворотом собольего воротника. – На пушечный выстрел к себе не подпускает. У него была жена. Китайская принцесса, между прочим. Он выгнал ее взашей.
– Отчего?.. – испуганно вытаращилась на товарку Ирина. Девушки шли по улице быстро, под ручку, тесно прижавшись друг к дружке, стуча каблучками по подмерзшему тротуару, то и дело настороженно оглядываясь – что за тень?!.. что за фигура в проулке?!.. а это кто, там, на перекрестке, пригнись, подайся к стене ближе, неровен час, выстрелит в тебя!..
– Не понравилась, значит, – усмехнувшись, пожала плечами Глафира. Ирина сильнее прижала ее локоть к боку:
– А Машка давно не заходила? Давненько что-то я ее не видывала. Она, говорят, карьеру сногсшибательную сделала?.. при каком-то, что ли, генерале ошивается?..
Глафира вздрогнула. Не сбавила шага.
– Не при генерале, Иринка, а при атамане. Да это ж, полагаю, один черт. Военная подстилка, что говорить. И вся карьера. А ты-то думала. – Афонина, оттопырив губу, кинула презрительный взгляд на подругу. – Моя карьера не в пример лучше. Хороша моя шубка?..
Она протянул вперед руку. Соболий рукав заискрился в мертвенно-лиловом, тусклом свете газового фонаря. Ирина судорожно, как после плача, вздохнула, промямлила:
– Хороша!..
– Вот и я тебе говорю. А куплена, промежду прочим, на мои денежки. На мои, кровные. Пузом своим, ножками своими, – она блеснула зубами, – кошечкой своей, подруга, отрабатываю. А кошечка моя – она двужильная. Пашу без устали. Как тяпкой рублю. Рублю, рублю – по рублю!..
Она расхохоталась. Ее нежный, колокольчатый смех не вязался с ее грубо размалеванным, дешево-зазывным лицом.
– Ну, я, как ты, не могу… У меня – успеха нет…
– К чертям успех! – оскалилась Афонина. – Успеха – никакого – нет! Есть только ты! И твоя воля! Хочешь – все будет! Отдельно от тебя, запомни, нет ничего!.. Ах, а поздненько-то как, ну тебя к дьяволу с твоим Маймаченом, извозчика сейчас все равно не взять, идем ко мне, в докторский дом! Там комнат – куры не клюют. Уложу тебя в своей, там кровать и удобный диван. Отдохнем… повеселимся!.. – Она пихнула Ирину локтем в бок. – У меня в шкафчике и малиновая демидовская настоечка припрятана… Варварушка из Иркутска еще в прошлом году в клювике принесла…
– А у Пака-то удобно ли все же ночевать?.. мы ж с тобою, все-таки, пойми, сама знаешь кто…
– Неудобно только с сопливыми целоваться, – оборвала ее Глафира. Сунула нос в соболью муфточку. – Ах, морозец!.. Скоро, в феврале, день рожденья ихнего Будды… господ раскосых можно тогда на улицах собирать просто как грибы дождливым летом…
– Глашенька, захвораешь ты!..
– Захвораю?.. – Афонина снова звонко расхохоталась, и хохот далеко, пугающе разнесся по пустынной, узкой и кривой ургинской улице. – Я уж хворала, родная ты моя!.. И лечилась… И, как видишь, жива…
– Доктор Пак тебя лечил, что ли?.. – Теперь уже хохотала Алферова.
– А что, если и так?..
– А у него, у Пака, поговаривают, сейчас какие-то евреи квартируют?..
– Ну да, евреи, их много, как черные жуки по дому ползают, и я, честно признаюсь, от них устала. О, вот и дом доктора, дорогая! С шиком живет господинчик, видишь, какой фонарь велел у крыльца поставить, таких фонарей я…
Глафира не успела договорить. Из-за угла особняка навстречу им обеим выгарцевали четверо конных казаков. Казаки попридержали коней, обступили двух женщин, взяли в кольцо. От конских морд на морозе шел синеватый, будто табачный дым, густой пар. Алферова и Афонина попятились, приникли друг к дружке. Казак, наезжавший на них нагло, – конь рыл под ним копытом свежевыпавший снег, – крикнул сквозь голубо-иглисто заиндевелые усы и бороду:
– Ишь, бабоньки хорошие! Куды ж это вы направляетесь, сладкие мои! Мордочки-то у вас, ох, не монгольские!.. – Осадил коня, рявкнул уже зло, будто рубил воздух шашкой: – За версту вижу кацапок! Вы, бляди размалеванные! Каво вы тут, у дома доктора Пака, околачиваетесь, а?!
– Мы… отойди, грязный мужик!.. – Глафира выставила руку перед дышащей морозным паром, оскаленной мордой грызущего удила коня и чуть не ударила зверя по зубам. – Мы тут квартируем! Живем мы тут, понял, нет?!
– Живете, – казак сплюнул на снег, потянул за повод. – Живете, значитца! А мы твово хозяина, дохтура, заарестовать пришли! Явреев он укрывает, сразумела, шалава?! А явреев, жидов то ись, по-нашему, по-русски, – приказано нам бить, всех выбивать, и весь сказ!
– Кем приказано? – спросила певичка Афонина. Губы ее враз пересохли, заледенели: ей почудилось – покрылись ледяной коркой.
– Енералом, кем-кем! Бароном нашенским, Унгерном! – Бородатый, как святой Николай, казак взвил мохноногого монгольского конька на дыбы. – А вы проживаете тута – ну так ведите нас, бабенки! Арестовывать корейца будем с понятыми, значитца!
Побелевшая Глафира первой поднялась по мраморной лестнице выстроенного в европейском стиле особняка. За ней шла, вся дрожа, втиснув руки в муфту, танцовщица. Казаки тяжко топали по лестнице сапогами, их мотающиеся на боках сабли стукались о перила, оббивали гладко обточенный мрамор. Они пожирали глазами обтянутые узкими, по моде, шубками зады женщин. Переглянулись меж собой: а ну-ка… Дом молчал. Казалось – спал. Однако еще не позднее времечко-то было.
Ознакомительная версия.