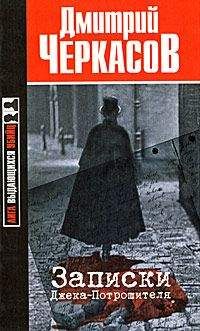Ознакомительная версия.
Рутенберг промолчал, что недавно в одном из французских юмористических журналов видел карикатуру на Гапона с надписью: «Что–то он становится удивительно похож на Хлестакова — героя знаменитой русской комедии «Ревизор».
«Подложу журнальчик Гапону среди других газет, а то этот поп–расстрига начал утомлять хвастовством, алчностью, фиглярством и завышенными амбициями. Но лидер эсеров Чернов поставил задачу вовлечь попика в нашу партию…»
Через несколько дней навестив гостиничный номер «борца с самодержавием» с трудом сдержал смех, наблюдая, как вождь будущего восстания самозабвенно стреляет по мишени на дверце шкафа резиновыми липучими пулями из детского пистолета.
— Георгий Аполлонович, позвольте поинтересоваться, чем это вы изволите заниматься? Из детского возраста, вроде бы, успешно выбрались.
— Товарищ Мартын. Как тебе известно, скоро в России развернутся боевые действия и я должен метко стрелять, — прижмурив глаз, нажал на курок. — Попа–а–ал! Как видишь, твёрдость руки у меня необычайная, а точность прицела как у лучшего стрелка лейб–гвардии Павловского полка. Друг мой ситный, я дам тебе денег — купи мне левольверт–бульдо, чтоб мстить царским опричникам. Обещаешь? — схватил Рутенберга за рукав пиджака.
— Обещаю, — разжал тот цепкие пальцы, освободившись от захвата.
— Вчера ходил на встречу к этим, как их, эсдекам, — сильнее, чем стрельбой поразил Петра Моисеевича.
— К большевикам или меньшевикам? — сел в кресло, требовательно уставившись на Гапона.
— А чёрт их знает… К Ленину, в общем.
— Новое дело! — заволновался Рутенберг. — И как принял тебя?
— Не совсем доброжелательно, — стушевался бывший поп. — Продержал в приёмной чуть не до вечера и пригласил последним.
— И что ты ему сказал? — заинтересовался эсер.
— Перво–наперво представился: Я Гапон… И вот сижу весь день тут…
— А он? «У Владимира Ильича амбиций на десяток Гапонов наберётся».
— А он: «Чего вы хотите?» — «Как чего?» Сговориться о наших делах!» — «Каких таких «наших делах?» — Да ещё нехорошо так ухмыльнулся. То ли язвительно, то ли пренебрежительно. И эдак пальцы в проймы жилета — ширк, — с раздражением рассказывал Гапон: «Как каких? — говорю. — У нас их пропасть. Вагон и маленькая тележка». — «Ну, уж и пропасть с вагоном?» — нехорошо, едко так засмеялся, — отбросив детский пистолет, забегал по номеру. — Это мне!.. Самому ГАПОНУ осмелился дерзить и надо мной надсмехаться…
— Ну и чем аудиенция закончилась? — поторопил бывшего священника Пинхус Моисеевич.
— Да ничем. Похлопал меня по плечу, предложив, если что, обращаться в приёмную вот к нему, — тыкнул пальцем в секретаря и ушёл.
«Славненько, — обрадовался Рутенберг. — А то отобьют ещё эсдеки у нас священника… Чернов не похвалит».
У Гапона от славословий в газетах земным шаром кружилась голова, и он постепенно выходил из–под влияния своего эсеровского дружка: «Кто Я, и кто — он… Слон и Моська».
Из Женевы бывший священник переехал в Париж: «Вот где раздолье и жизнь. Не то, что в захолустной мещанской Женеве, под завязку набитой революционерами — будто снова в пересыльной тюрьме нахожусь…»
В столице Франции он тоже направо и налево раздавал интервью репортёрам, и даже был принят Жоресом[9] и Вальяном[10]
Не дремал и полковник Акаши, наблюдая за искусно созданным бумом вокруг нелепого попа–расстриги.
«Что ж, стоит и мне внести свою лепту в его возвеличивание, дабы эта марионетка ещё раз нанесла вред своей родине. Каких только уродов не рождает земля русская», — с удовольствием подумал он, велев обрабатывать зазнавшегося «спасителя отечества» молодой красивой даме, завербованной им ещё в Петербурге.
И конечно, как–то так получилось, что не совсем в фешенебельном ресторане, куда русский гвардейский офицер побрезговал бы зайти, прекрасная дама, проходя мимо пьяненького уже попа Гапона, «совершенно случайно» подтолкнула его, и он вылил полбокала вина на мотню штанов.
Штаны на этот раз, слава богу, были ни сиреневые в жёлтую полосочку, а нормального коричневого цвета, плохо гармонирующего с синим пиджаком и красной революционной жилеткой.
Дама долго извинялась на шести языках, и нежной ручкой с салфеткой промокала пятно.
Когда гапоновское лицо сравнялось по цвету с революционной жилеткой, она произнесла:
— Ах, я такая неловкая, право… Только приехала. Никого тут не знаю, и не успела даже номер в гостинице заказать.
— Отец Гапон. Э–э–э, Георгий Аполлонович, — сглотнул слюну расстрига, и хотел добавить: вождь мирового пролетариата.., но промолчал, вспомнив, что на эту роль претендует другой.
— Лариса Петровна, — воскликнула дама и чмокнула бывшего попа в лоб. — Я так мечтала встретиться с вами… и вот… судьба свела нас… С девятого января я стала ярой вашей поклонницей, — уселась на соседний стул. — Раньше была монархисткой, но вы перевернули моё мировоззрение… И теперь, вместе с вами я готова отдать жизнь и средства за освобождение трудового народа…
Разумеется, ночь они провели вместе…
Приехавший через неделю в Париж Рутенберг с трудом отыскал гостиницу, где поселился Георгий Аполлонович, зато номер нашёл очень быстро.
Поднявшись на нужный этаж, услышал громовое: «Реве-е та стогне-е Днипр широки–и–й».
— Папашка, — услышал, толкнув почему–то незапертую дверь, — заказ принесли.
— Моисеич! — обрадовался Гапон. — А мы с новым товарищем обсуждаем планы ликвидации самодержавия.
— Вижу! — буркнул раздосадованный Рутенберг.
— Мартын, дружище, ну не дуйся, — обнял гостя бывший поп. — Лучше познакомься. Это товарищ Лариса. Из очень богатой аристократической семьи. Имеет связи в высшем петербургском обществе. Калякает на всех европейских языках и даже балакает по–японски. Изучала химию в Оксфордском университете, а тут проходит стажировку.
— Вижу! — вновь буркнул Рутенберг.
— Да что ты заладил: вижу, вижу… А вот это ты видел? — помахал перед носом Рутенберга голубым листком и затем насильно впихнул ему в руку. — Полюбуйся… Чек на пятьдесят тысяч франков, — с удовлетворением заметил, как брови эсера от удивления полезли вверх. — С твоим Черновым я не сошёлся взглядами, как и с Лениным. Плюнь на них всех, и давай вместе делать революцию в России.
— С помощью вот этого револьвера системы «Веблей», что привёз тебе в подарок? — испугал Ларису Петровну, вытащив из баула пистолет.
— Это мне? — опешил Гапон. — Я всегда знал, что ты верный друг, — обнял и похлопал по спине Рутенберга. — Открою тебе тайну, — отмахнулся от чего–то хотевшей произнести дамы. — Один очень богатый филантроп предложил нам большие деньги на то, чтоб мы зафрахтовали пароход, загрузили его оружием и направили в Россию для вооружения рабочих. Ведь некоторые члены Собрания сношаются со мной посредством писем и телеграфных сообщений…
— Чего? — повертел чек и даже понюхал его Пинхус Моисеевич.
— Да подлинный, подлинный, — забрал и положил в карман голубой листок Гапон. — Могу сообщить тебе ещё одну важную новость.., — сделал артистическую паузу, подогревая интерес слушателя. — Питерский пролетариат проводит подписку по сбору средств мне на памятник.
— Чего? — протянул Гапону наган Рутенберг.
— Ты сегодня какой–то недалёкий и странный, — независимо уселся в кресло, и навёл на собеседника ствол бывший святой отец.
— Но–но! Заряжен, — предупредил его гость. — И не липучками, — уселся напротив, забросив ногу за ногу и закурив сигару.
— Ты не ослышался — прижизненный памятник. Ни одному царю, пока жив, не ставили. Рабочие помнят и уважают меня. И пишут, что им недостаёт лишь оружия, дабы сбросить прогнивший царский режим…
— Ну что ж, убедил, мсье Гапон, — поднялся из кресла Рутенберг. — Войду, как ты выражаешься, в сношение со своим руководством и прозондирую почву на вопрос помощи тебе в покупке оружия.
— Можешь сказать Чернову… Для усиления аргументации… Что зафрахтованный пароход называется «Джон Крафтон». Пусть проверит.
Проверял информацию сам Азеф.
— Чёрт его знает, этого расстригу, вроде не врёт. Предлагаю вложиться в его мероприятие, а Петра Моисеевича направить в Петербург, чтоб проконтролировал прибытие парохода и разгрузку оружия.
Спустя десять дней Рутенберг с надёжными документами выехал в Петербург, и на третий день был арестован и посажен в тюрьму.
Полиция сработала быстро и грамотно. Видно, по чьей–то наводке. Скорее всего — папаши Азефа.
Николай Второй с последних дней мая собирал бесконечные совещания по вопросу мира с Японией.
К его удивлению, после Цусимы в образованном обществе произошла парадоксальная вещь — мнение сместилось в сторону продолжения войны.
Зато в верхах случилось обратное. Даже дядюшка Владимир, прежде ратовавший за войну, вдруг заговорил о мире: «Теперь мы находимся в таком, если не отчаянном, то затруднительном положении, что нам важнее внутреннее благосостояние, чем победы. Необходимо немедленно сделать попытку к выяснению условий мира».
Ознакомительная версия.