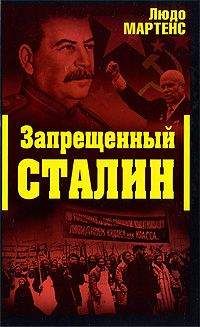Понимает ли это император? Смирится ли он покорно перед этой величайшей, пока еще не разгаданной тайной или возмутится? Не сменит ли чувство бессилия прилив бешенства, объектом которого будет избран он, Есениус? Обычно бледное лицо императора стало розоветь. Это был тревожный признак, означавший, что император сильно возбужден. И Есениус понимал: покажи он Рудольфу даже мозг несчастного Симеона, это не рассеет его сомнений, не уничтожит беспокойства. А что будет потом, как отблагодарит его император?
Рудольф отошел от стола и посмотрел вокруг, как будто чего-то ища. Возможно, у него заболели ноги и ему захотелось присесть.
Нервы Есениуса были напряжены до предела. Все свое внимание он сосредоточил на анатомировании, хотя при этом не забывал украдкой следить за каждым движением императора. Он был начеку, как бы ожидая приближения какой-то неведомой опасности. Ему хотелось привлечь внимание императора к своей работе.
— Если ваше величество позволит, я вскрою череп. — И, когда император кивнул в знак согласия, он продолжал: —Посмотрим, имеются ли в мозгу какие-нибудь следы умопомешательства.
Император придвинул стул и сел. Это предложение Есениуса его явно успокоило.
— Хорошо, вскрывайте. И подробно обо всем расскажите.
Теперь Есениус окончательно убедился, что вскрытие черепа было основной целью этого необыкновенного анатомирования.
Император хочет убедиться, можно ли по изменениям в мозгу распознать умопомешательство и вылечить его, вскрыв череп. А вдруг таким образом можно излечить и его болезнь?
Взмах острого ножа — и скальп уже на полу. Теперь с помощью пилы можно вскрыть лобную кость.
— Скажите, доктор, существует какая-нибудь разница между мозгом этого юродивого и, скажем, мозгом… императора?
Голос императора прозвучал почти просительно. Рудольфу мучительно хотелось ухватиться за какие-то неоспоримые доказательства своей исключительности, ибо ему казалось, что земля уходит из-под ног и увлекает его с собой в пропасть.
Но Есениус не мог ему помочь. Впрочем, даже если он и дал бы какой-то ответ на этот нелепый вопрос, разве поверил бы император, что его мозг не отличается от мозга простого человека?
«Между мозгом императора и мозгом юродивого нет различия», — такой ответ вот-вот был готов сорваться с языка хирурга. Но он вовремя понял: Рудольф ждет совсем другого.
— Между мозгом отдельных индивидуумов нет различия, — сказал наконец Есениус. — Во всяком случае, покуда речь идет о строении его и составе. Различие есть только в величине.
И вот оба с пристальным вниманием рассматривают серое вещество мозга, но не замечают в нем ничего такого, чем бы оно отличалось от мозга здоровых людей.
Острый нож Есениуса вонзается в мякоть вещества, и хирург и император смотрят, что делается внутри мозга, в слоях ткани, напоминающих своим рисунком полукружия радуги. Но и там они ничего не находят. Нет даже следов кровоизлияния — ничего такого, что могло бы хоть как-то приблизить врача к разгадке тайны, которая для императора важнее, чем расположение звезд в час, когда он появился на свет.
Есениус растерянно пожимает плечами и снова вкладывает мозг в черепную коробку.
— Ignoramus et ignorabimus[26], — покорно произносит император.
А его личному врачу нечего сказать в утешение своему владыке. Он чувствует лишь жалость, которую испытывает врач к неизлечимо больному человеку, но не смеет ее показать.
После своего первого анатомирования Есениус был горд тем, что совершил. Он чувствовал себя тогда исполином, который осмелился приоткрыть завесу, скрывавшую от простых смертных тайну жизни. В тот раз анатомирование было для него самоцелью. Теперь же оно должно было вскрыть причину болезни и смерти человека. Но он не узнал ни того, ни другого. Вместо гордости, которую он испытывал после первого вскрытия, сейчас им овладела лишь горечь сожаления и какая-то безграничная покорность, ибо он осознал, какими бессильными оказываются даже знаменитейшие врачи перед некоторыми загадками природы.
Всю дорогу в ушах у него звучали слова императора:
«Ignoramus et ignorabimus».
Он сравнивал себя с деревом, на которое налетела буря. От всей его самоуверенности не осталось и следа. Ему казалось, что гораздо лучше было бы отказаться от избранного пути и посвятить себя чему-нибудь другому. Сомнения, безнадежно овладевшие императором, передались и ему. Где-то глубоко внутри он ощущал странное беспокойство. Будто там, в душе, со все прибывающей силой забил источник сомнений. И в шуме его все время, безостановочно повторяются одни и те же знакомые, обезоруживающие слова: «Суета сует…»
Мария заметила, что муж расстроен, и стала его расспрашивать.
Он поделился с ней своими сомнениями.
— Это ужасно, когда человек вдруг начинает понимать свое бессилие. И еще при таких обстоятельствах! Что мне толку от моей науки, если я не могу дать ответа на такой простой вопрос: «Отчего умер юродивый Симеон?»
Есениус присел к столу, подпер рукой голову. Вся радость жизни покинула его.
С той головокружительной высоты, на которую вознес Есениуса успех, он снова пал на самое дно.
— Пожалуй, ты преувеличиваешь, Иоганн, — осторожно промолвила Мария. — Какая тебе польза, если бы ты узнал, отчего он умер? Надо обращать больше внимания на живых. Им ты можешь помочь, а мертвым уже все безразлично. И еще я тебе скажу, Иоганн: не сдавайся после первой же неудачи. Постарайся найти ее причину. Ты искал ее?
Есениус признался, что нет.
— Ну вот видишь! Знаешь, в чем я вижу причину твоей неудачи? В том, что ты больше полагался на книги, чем на собственные наблюдения. И эта новая неудача должна заставить тебя еще упорнее работать.
Лицо Есениуса просветлело. Он порывисто встал, подошел к жене и, целуя ее в лоб, сказал:
— Nescimus, sed sciemus[27]
Разговор с Марией не убедил Барбору. Она все еще не могла согласиться с тем, чтобы ее муж перестал составлять гороскопы.
Барбора постоянно вспоминала первые месяцы их жизни в Праге. Как было тяжело просить у Браге жалкие гроши и как унизительно получать отказ — у самого, мол, нет! Горько об этом вспоминать. Теперь у Кеплера приличное жалованье, только получает он его всегда с опозданием. Если бы можно было на него рассчитывать, они бы прокормились. Но что поделаешь, если Кеплеру опять вот уже несколько месяцев ничего не платят. Хоть бы потом отдали. Но об этом не может быть и речи. Дадут немного, а остальное жди месяцы, а то и годы. Как же при этом отказываться от единственно надежного источника дохода, каким являются гороскопы? У Регины такой возраст, когда молодой организм требует хорошего питания. А платья, башмаки и все прочее? И это только одному ребенку. Расходы на Зузанку, хотя она и совсем крошка, немногим меньше. Все время надо что-то покупать, не говоря уж о квартире. Марии легко говорить: детей у них нет, а побочных доходов куда больше, чем у Кеплеров.
Так рассуждала Барбора, решившись отстаивать раз и навсегда заведенный в доме порядок. Но все же она вспомнила слова панн Марии: «Ты не можешь судить обо всем только со своей точки зрения. Вникни в положение Иоганна. Разве ты забыла, что он тебе однажды сказал? «Для меня неважно, что думают о моей работе современники и будут ли люди читать сразу же после моей смерти мои книги. Но я глубоко убежден, что через сто лет их оценят по достоинству и прочтут с тем интересом, какого они заслуживают». А если он так уверен в значительности своих исследовании, она не должна ему мешать, не должна отвлекать своими кухонными интересами.
Долго боролись в Барборе заботливая мать с доброй женой. Ей казалось, что интересы детей находятся в противоречии с интересами мужа. Но постепенно она уступила. Помогло то, что императорская казна несколько месяцев аккуратно выплачивала жалованье придворным служащим.
Пани Барбора обходилась жалованьем и перестала вспоминать о гороскопах.
Кеплер с головой погрузился в свою работу.
В ясные ночи он отправлялся в загородный дворец королевы Анны. Здесь, в большом зале верхнего этажа, император создал обсерваторию. Сюда он велел перенести все приборы, принадлежавшие Тихо Браге; некоторые из этих приборов — самые большие, не помещавшиеся в доме Браге, — были установлены здесь еще при жизни придворного астронома.
Каждый раз, когда Есениус дежурил ночью, они встречались с Кеплером на Граде.
— Жаль отвлекать вас от работы, — сказал однажды вечером Есениус Кеплеру, — но я с удовольствием пошел бы с вами в Бельведер. Я там еще не был. С покойным Браге мы не раз вместе наблюдали ночью небосвод. Только не знаю, не буду ли я вам в тягость…
— Как вы можете так говорить? — вспыхнул Кеплер. — Ведь вы знаете, как я ценю ваш интерес к моей работе. Я буду весьма рад, если вы отправитесь со мной. Хотя бы сегодня. Ночь ясная, и мы сможем беспрепятственно наблюдать звезды.