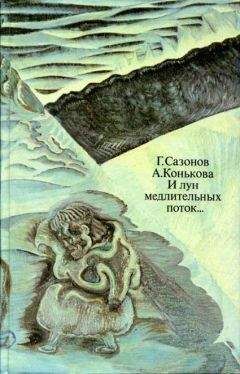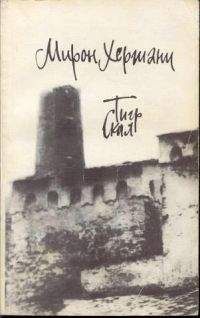— Бабы выжгут его насквозь, — сказала она Мирону. — Он не добывает острогой нельму, не сторожит ее, а берет ту, что река ему выбрасывает на берег. Бабы берут его сами, когда захотят, и душа его изорвется в слабости…
— Пускай маленько поиграет, — добродушно отвечал Мирон. — Гон у него начался, как у молодого лося. Давай у Лозьвиных девку возьмем?
— Нет! — отрезала Апрасинья.
— Может, у Кентиных? У них девки пышные, как шаньги.
— Шаньги?! — разъярилась Апрасинья, и ее лицо замерцало, как в молодости. — А какие дети, какие сыны могут быть от такой шаньги?
Апрасинья уж который раз увязывалась с Мироном на ярмарку — путь нелегкий, долгий. Дорога санная разбита, в скользких, развалистых разъездах. И каждый раз, останавливаясь на ночевку в деревеньках и на постоялых дворах, она зорко вглядывалась в молодиц. Незаметно, исподволь она заводила тихие речи с женщинами о ценах на рыбу, муку и чай, да соль, да сукна, потом переходила на пушнину и, вовлекая в разговор, узнавала, сколько стоит девка в этих краях. Здесь, в пелымских землях, за девку платили не столько пушниной, сколько золотом, червонцами, серебряными украшениями, скотом — мелким и крупным конями, изделием из железа. Не только манси-вогулы, не только соседние, схожие лицом и обычаями ханты-остяки покупали у родителей или меняли на скотину девку; женщину покупали и продавали татары — не от них ли то пошло? — и чуваши, и другие узкоглазые, медноликие люди, что называли себя ойротами да казахами.
— Наверное, во всех землях единый закон? — задумалась Апрасинья. — Какой же неискупимой виной женщина провинилась перед великим небом? Какой великий грех сотворила она, что со дня ее рождения на ней несмываемое клеймо? Это какой же должен быть грех, если на скотину, на собаку меняют?
— Эй ты! Ты, вогулка! — приподнял гладкую, бритую голову медноликий татарин, что спал на лавке. — У тебя, баба, видно мужиков полно, что ищешь девку. Купи мою — ой сладка, как мед. Так и липнет. Жаром, как головешка, исходит. Купи мою девку, совсем недорого возьму — три десятка баранов. Да три денежки золотые!
— Мне нужна нашего народа девка! — гордо ответила Апрасинья.
— Моя девка — огонь! — оскалил зубы гололобый татарин. — Кобылица необъезженная. Шибко сладкая. Могу за соболей отдать. Пушнина тоже нужна.
У русских свои законы, но вовсе непонятные. Девок своих за манси не давали, да и не каждому русскому давали, то вера не подходит, то порода, глядишь, не та. Но русские как-то по-другому, иначе продавали девок своих. Родители за невесту приданое давали, доплачивали за нее жениху — жених запрашивал цену. Вроде бы наоборот, а если взглянуть вглубь — та же самая торговля, так же торговался жених, просил дать за невесту побольше — скотом ли, хлебом ли, землей ли или барахлом-тряпками. А родители яро торговались, желали поменьше за девку отдать, оттого примечали и привечали мужика побогаче. Так и ведется в мире — богатый берет богатую, а бедному, голому достается бедная. А бедные семьи завсегда многоротые, многогорлые, многопузые и все съедают, как пожар. Считают, что из бедной девки хозяйка добрая, нерасточительная получается, да неверно то, — или доотвалу нажираться будет за голодные годы, или копить. Но у нее, у Апрасиньи, слава Шайтану да Великому Торуму, есть все, чтобы добыть добрую женщину, пусть она хоть из богатых.
2
Остановилась она как-то с Мироном в Рублево, что между Гарями и Пелымом, ночевали на постоялом дворе. Двором тем владели три сестры, обрусевшие мансийки Бурхановы. Отец у них был полурусский от татарки, а мать — пелымская вогулка, жила при муже, но не женой, а вроде бы рабыней. Купил ее тот в голодный год у кривого вогула за плитку табаку и пуд муки. Этим обрусевшим сестрам достался от отца-полутатарина большой дом с крытым двором да амбарами, с двумя сараями, где теснились пара коней да пять коров, телята да овцы. Подрастала у тех сестер племянница-сирота с верховьев Пелыма-реки. Померли ее родители от черной оспы, померли вместе со всей деревушкой, но посчастливилось Околь. Была она в ту весну у теток, нянькались они с ней, играли, потому что двоим детей своих бог не дал, а третья все собиралась родить, да мертвые рождались.
Сиротой Околь никто не называет, вокруг нее три тетки кружатся: одна работу дает, другая проверяет, третья стережет, глаз не смыкает да жениха высматривает побогаче. Держали тетки работника, хромого родственника из далекой деревушки, тот на охоту не ходок, на рыбалку тоже, а здесь хоть пища каждый день да кусок хлеба, когда и мясо перепадет да рыба. Тетки за манси себя уже не признавали, нос воротили, фыркали, когда останавливался бедный рыбак или охотник с тощим мешком. Называли они себя опекуншами Околь. «Мы — опекуны! Мы перед богом, перед Христом и Николаем Угодником за нее в ответе». Тетки две комнаты держали в чистоте, с русскими кроватями и пятнистым, как рысь, зеркалом. Из углов, из глубины черных икон, смотрели пронзительные глаза на тлеющую лампадку, а на стене висела яркая размалеванная картинка.
— Царь! — шепотом сообщила Апрасинье старшая тетка. — Ца-арь! Он — бог на земле! Самый, самый, самый сильный и страшный.
— Земной бог — Шайтан, Сим Пупий! — не согласилась Апрасинья. — Торум на небе, Пупий-Шайтан всегда на земле!
— Бедная ты разумом. Темная, — зашептала старшая тетка Федора. — Ты забудь языческих, поганых богов своих, идолищ и духов. Тебя крестили в истинной вере? — остро взглянула Федора. — Крещена ты?
— Хрещена, — махнула рукой Апрасинья. — Приходил к нам бородатый мужик, ой страшный, как Леший — Вор-Кум. Махал маленьким котелком. Дым из той посудины сладкий поднимался. Ревел, глаза, как сохатый, вываливал. Голову мне водой мочил, а на лбу маслом мазал.
— Имя тебе давал? — допрашивала Федора.
— Давал имя! Апрасинья стали звать, а мое имя такое — Журавлиный Крик!
— Поганое это имя… Журавлиный Крик, то может только шаман дать! Мы племянницу в церкви крестили! — гордо вскинула крупную голову Федора. — Поп взял три шкурки соболя и нашел самое красивое имя — Акулина!
— Околь! — прошептала Апрасинья. — Околь она!
Весь день Апрасинья не спускала глаз с девушки, следила за каждым ее движением, и ей уже чудилось, что это — она. Да, сердце говорит, это та, которую она ищет, — крупная, высокая ростом, как Тимпей, плечи круглые, шея высокая, голову держит гордо, смотрит прямо, доброжелательно и ласково. Из-под чутких соболиных бровей теплом, доверием чисто светились глаза. Свежий припухлый рот открывает в улыбке белые зубы, плотные, как туго набитая орешками шишка.
Апрасинья с радостью, потаенной надеждой видела, как Околь, слегка покачивая бедрами, как лодка на тугой волне, по-русски, на коромысле, несет полные ведра с водой — не плеснет. Откинула Околь платок, и на солнце жаркой медью вспыхнули густые кудрявые волосы. Медные, красно-медные, а может, золотые те волосы?
Много ли на земле золотовласых девушек манси? Много ли таких белоликих вогулок? Видно, родилась она в солнечный день на золотистом прибрежном песке, под легким ветром, что раскачивал реку. Хлынуло на нее раскаленное солнце, и застыло в волосах, и позолотило лицо, обуглило до черноты брови и раскалило губы, тугие, как брусника. А те ветры тугие, голубые-голубые-золотые, зеленые ветринки, играючи, раскудрявили волосы, собрали в дорогие кольца, и вырвались те из-под платка, словно пели и смеялись.
— Околь, — тихо позвала ее Апрасинья и протянула руку. — Околь! Девушка моя! Хорошо ли живется тебе?
— Хорошо! — блеснули в улыбке зубы, распахнулись, засмеялись глаза. — Хорошо, сим нэ — милая женщина!
— Тетки, поди, колотят тебя? Манюня-то вовсе медведица, — хитро прищурилась Апрасинья и крепко затянулась табаком. — Вот у Федоры изо рта клык торчит. Не кусает?
— Да нет, сим нэ! Да кабы она не любила, разве учила бы грамоте? Читать меня тетушка Федора научила. И писать, — с гордостью ответила девушка. — Грамоту знаю.
— Пи-са-ать… чи-та-ать… — дотронулось до Апрасиньи, отпечаталось в сознании, хотя она до конца не поняла, что это такое «читать»… «писать».
Видела она в церкви, как дьячок скрипел гусиным пером по белому, белее бересты, листку, рисовал какие-то странные, запутанные узоры. Каждая черточка не похожа на другую, цеплялась за третью и ложилась, оставляя кружевную цепочку следов. Видела она в церкви на полотне громадные, в человеческий рост, рисунки и так просто на стене узорную вязь или четкий, словно вырезанная тамга, оттиск, видела она таинственные знаки у волостного, что приезжал в Евру, когда проводил перепись и назначал ясак.
— Гра-мо-та, — раздельно проговорила Апрасинья, — что такое гра-мо-та? Давно я хочу знать, нужно… ой как мне нужно… и Ондрэ Хотанг про то говорил…
Рассмеялась Околь, рассыпала по комнате светлый, легкий смех, забежала в горницу и вынесла оттуда тяжелую книгу, одетую в черную старинную рубаху с серебряными застежками.