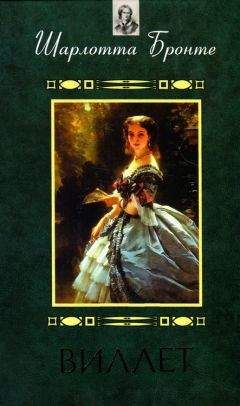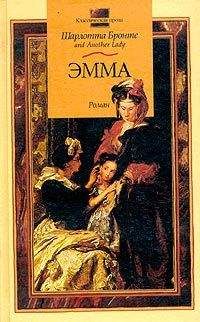В зале и в самом деле не было ни одного холостого и бездетного зрителя, кроме мосье Поля, единственного представителя мужского пола, которому разрешалось танцевать с ученицами. Ему было дано это исключительное право, во-первых, по традиции (ибо он был родственником мадам Бек и пользовался ее особым доверием), во-вторых, потому что он все равно поступал как ему заблагорассудится, и, в-третьих, потому что, каким бы своевольным, вспыльчивым, пристрастным он ни бывал, у него в груди билось благородное сердце и ему можно было доверить целую армию прекрасных и непорочных девиц, оставаясь в полной уверенности, что благодаря ему они в беду не попадут. В скобках следует заметить, что многие пансионерки вовсе не отличались безгрешностью помыслов, но ни за что не посмели бы обнаружить свойственную им примитивность в присутствии мосье Поля, как не решились бы намеренно обидеть его, рассмеяться ему в лицо во время обращенных к ним его взволнованных речей или переговариваться друг с другом, когда в приступе гнева он надевал маску умного тигра. Вот почему мосье Поль имел право танцевать с кем пожелает, и всякое вмешательство в такое положение вещей ничего не изменило бы.
Всем прочим гостям отводилась роль зрителей, но даже наблюдать за этим действом они могли благодаря неизъяснимой доброте мадам Бек, после длительных просьб, ходатайств и уговоров, на весьма строгих условиях. Весь вечер мадам не уставала следить за тем, чтобы небольшая отчаявшаяся группа «jeunes gens»[135] принадлежавших к высшим слоям общества, матери которых присутствовали здесь же, а сестры были ученицами нашего пансиона, не покинула отведенного им самого отдаленного, мрачного, холодного и темного угла в carre. Мадам беспрерывно дежурила около «jeunes gens» — заботливая, как мать, но бдительная, как цербер. Они одолевали ее мольбами разрешить им перешагнуть через воображаемый барьер и насладиться всего лишь одним танцем с этой «belle blonde»,[136] или вон той «jolie brune»,[137] или «cette jeune fille magnifique aux cheveux noirs comme du jais».[138]
— Taisez-vous![139] — отвечала мадам решительно и неумолимо. — Vous ne passerez pas à moins que ce ne soit sur mon cadavre, et vous ne danserez qu’avec la nonnette de jardin[140] (намек на легенду). — И она с величественным видом прохаживалась перед строем безутешных и полных нетерпения юношей, словно маленький Бонапарт, нарядившийся в шелковое платье мышиного цвета.
Мадам хорошо знала жизнь, как и человеческую натуру. Думаю, ни одна другая начальница пансиона в Виллете не осмелилась бы допустить в стены своего заведения «jeune homme»,[141] но мадам понимала, что подобное позволение можно использовать, чтобы добиться укрепления своих позиций, что, несомненно, было ловким ходом.
Во-первых, родители пансионерок оказывались соучастниками в этом деянии, ибо совершалось оно по их ходатайству. Во-вторых, то, что мадам впускала в дом опасных и обладающих магнетической силой гремучих змей, особенно подчеркивало непревзойденный талант, присущий мадам, — талант первоклассной надзирательницы.
В третьих, присутствие юных представителей мужского пола придавало пикантности всему празднеству. Ученицы понимали это, а зрелище сверкающих вдалеке золотых яблок делало их такими оживленными, как никакие другие обстоятельства. Радость детей передавалась родителям, веселье и ликование охватывали всех присутствующих, развлекались даже укрощенные «jeunes gens», ибо мадам не давала им скучать. Вот таким образом каждый год празднование именин мадам Бек имело такой успех, какого не удавалось добиться ни одной директрисе во всей стране.
Я заметила, что сначала доктору Джону разрешалось свободно расхаживать по всем комнатам. Мужественный и степенный вид умерял в нем юношескую живость и даже несколько приглушал красоту. Однако, как только начался бал, к нему подбежала мадам.
— Пойдемте, Волк, пойдемте, — воскликнула она, смеясь. — Хоть вы и в овечьей шкуре, вам все же придется покинуть овчарню. Пойдемте, у меня там, в вестибюле, собрался небольшой зверинец, хочу и вас поместить в мою коллекцию.
— Но разрешите мне сперва один раз потанцевать с ученицей, которую я выберу.
— Как вам не стыдно просить об этом? Какое безрассудство! Какая дерзость! Идите, идите, да побыстрее!
Подталкивая его в спину, она вскоре выдворила его за барьер.
Джиневра, уставшая, как я полагаю, от танцев, разыскала меня в моем убежище. Она бросилась рядом со мной на скамейку и (без чего я могла бы легко обойтись) обняла меня за шею.
— Люси Сноу! Люси Сноу! — со всхлипами, почти в истерике воскликнула она.
— Ну, что же случилось? — спросила я сухо.
— Как я выгляжу? Как я сегодня выгляжу? — настойчиво повторяла она.
— По обыкновению до нелепости самодовольно.
— Злюка! Вы никогда не скажете доброго слова обо мне, но, что бы ни говорили вы и все прочие завистливые клеветники, я знаю, что очень хороша. Я ощущаю свою красоту и вижу ее, когда смотрю на себя в полный рост в большом зеркале в артистической уборной. Пойдемте-ка со мной и посмотрим в него, хотите?
— Хочу, мисс Фэншо. Вот уж когда вы вволю натешитесь!
Мы вошли в расположенную рядом комнату для одевания. Взяв меня под руку, она подвела меня к зеркалу. Я стояла перед ним молча, не оказывая никакого сопротивления и предоставив ей, самолюбивой кокетке, возможность испытывать торжество и ликование. Мне было занятно, может ли удовлетвориться ее тщеславие, проникнет ли хоть капля участия к другим людям в ее сердце, чтобы умерить суетное и высокомерное упоение самой собой.
Нет, этого не произошло. Она вертелась перед зеркалом и заставляла меня делать то же самое, осматривала нас обеих со всех сторон, улыбалась, подкручивала локоны, поправляла кушак, разглаживала юбку и наконец, выпустив мою руку и присев с притворной почтительностью в реверансе, произнесла:
— Ни за какие блага в мире не хотела бы превратиться в вас.
Замечание это было слишком наивным, чтобы вызвать гнев, и я ограничилась тем, что сказала:
— Ну и прекрасно.
— А сколько бы вы заплатили, чтобы стать мною? — спросила она.
— Ни пенса не дала бы, как ни странно для вас это звучит, — ответила я. — Вы несчастное создание.
— В душе вы думаете иначе.
— Нет, ибо у меня в душе для вас нет места, лишь иногда мелькает мысль о вас.
— Но все-таки, — сказала она с укоризной, — выслушайте, чем отличается мой образ жизни от вашего, и вы поймете, что я счастлива, а вы несчастны.
— Говорите, слушаю вас.
— Начнем с того, что мой отец благородного происхождения и, хотя он небогат, я могу возлагать надежды на дядю. Затем, мне всего восемнадцать лет — самый восхитительный возраст. Я воспитывалась на континенте, и, пусть у меня нелады с орфографией, я обладаю множеством достоинств. Вы не будете отрицать, что я красива, поэтому у меня может быть столько поклонников, сколько я пожелаю. За один сегодняшний вечер я разбила сердца двух молодых людей, и скорбный взгляд, который только что бросил на меня один из них, как раз и вызвал у меня столь радостное настроение. Мне ужасно нравится видеть, как они краснеют и бледнеют, хмурятся, устремляют друг на друга свирепые взгляды и печально-нежные — на меня. Такова я, счастливица! А теперь займемся вами, бедняжка. Полагаю, вы отнюдь не знатного происхождения, поскольку вам пришлось ухаживать за маленькими детьми, когда вы приехали в Виллет; у вас нет родных; вам двадцать три, а это уже не молодость; вы не обладаете ни привлекательностью, ни красотой. Ну а поклонники… едва ли вы представляете себе, что это такое. Вы и разговаривать на эту тему не хотите — сидите, как немая, когда другие учительницы рассказывают о своих победах. Думаю, вы никогда не влюблялись, да и в будущем вам это не грозит. Вы просто не ведаете, какое это чувство. Возможно, так лучше для вас, потому что, если бы вы сами умирали от любви, на нее не откликнулось бы ничье сердце. Разве я сказала неправду?
— Почти все — истинная правда, да еще доказывающая вашу проницательность. Вы, видимо, порядочный человек, Джиневра, раз можете говорить так честно; даже эта змея Зели Сен-Пьер не осмелилась бы произнести подобное. И все же, мисс Фэншо, хоть я, по-вашему, жалкая неудачница, я не дала бы за вас и пенса.
— Лишь потому, что я не умна, а вы только это принимаете в расчет. А ведь никого на всем свете, кроме вас, не заботит, умен ли человек.
— Напротив, я считаю вас по-своему очень умной, вы сообразительны и находчивы. Но вы вели речь о том, как разбивать сердца, как преуспеть в этом деле, достоинства коего мне не совсем ясны. Прошу вас, скажите, кого же удалось вам, как вы самоуверенно полагаете, подвергнуть казни сегодня?
Она наклонилась к моему уху и прошептала:
— Оба — и Исидор, и де Амаль — сейчас здесь!