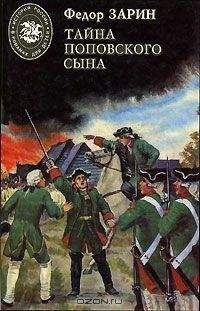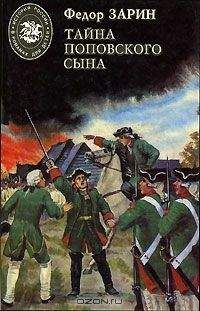Он замолчал.
— Ну, Сеня, молись теперь, — серьезно произнес Тредиаковский, — знаешь, еще у древних было поверье… не хочу пугать тебя… а только завистливы боги, помни это, мальчик!
С этими словами Василий Кириллович отправился опять к своей оде.
Сеня тоже поплелся, чтобы заглянуть в свой сарай.
Он накинул кафтанишко на заячьем меху и вышел во двор.
Дверь сарая была открыта, и там на бревне сидела Варенька, закрыв обеими руками лицо.
Сеня был поражен.
— Варвара Афанасьевна, — робко позвал он. Она не отвечала.
Он тихо подошел к ней и нежно отвел руки от ее лица.
Прямо на него глянули ее тоскующие большие глаза.
— Варенька, что с тобой? — воскликнул он, крепко сжимая ее руки.
Она с силою вырвала их и встала.
— Ах, оставьте меня, сударь, — воскликнула она, — я вам не Настенька Кочкарева.
Сеня отшатнулся, и на его добром лице появилось выражение страдания.
И в этот миг эта девушка с покрасневшими глазами, тщетно сдерживающая слезы, стала ему вдруг бесконечно дорога.
— Варенька, — проговорил он дрогнувшим голосом, — Варя… что ты?
Он замолчал и снова овладел ее бессильно опущенными руками.
На этот раз она не отняла их.
— Варенька, что с тобой? — снова повторил он, притягивая ее к себе. Он сам не понимал, что с ним. Упоение победы, эта красивая девушка, с которой он так сжился, которая стала его товарищем, помощником, ее разметавшаяся коса…
Он все крепче притягивал ее к себе за нежные руки.
— Сеня, Сеня! — тихо проговорила Варя и опустила голову ему на грудь.
— Вот мое счастье! — мелькнуло в голове Сени, и он крепко обнял прильнувшую к нему девушку…
Борода у Кочкарева стала отрастать, она была совсем седая. Одежда на нем уже пришла в ветхость.
Из крепкого, здорового человека он сразу обратился в дряхлого и хилого старика. Лицо осунулось, глаза ввалились. С наступлением морозов стены его камеры стали промерзать. Ночью в кружке замерзала вода. Кочкарев уже ни на что не надеялся, ничего не ждал.
Андрей Иванович еще несколько раз вызывал его к допросу, но, несмотря на свою поистине дьявольскую изобретательность в ведении следствия, до сих пор не мог сыскать на нем никакой вины, чтобы можно было представить законченное, угодное его светлости следственное дело.
У старого мастера руки чесались. Он крестился и, вздыхая, отгонял от себя искушение прибегнуть к "пристрастию". На это нужно было особое разрешение.
И когда разрешение пришло, это был счастливый день. Бирон писал, что ему доподлинно известно, что Кочкарев истинный злодей, и потому он приказывал построже, ничем не стесняясь, допросить его. Но этим не кончился счастливый день Андрея Ивановича. По тому же делу ему доставили наконец и другого злодея, сержанта лейб-гвардии Измайловского полка, Павла Астафьева.
— А, — потирая руки, говорил себе кровожадный старик, — что, взял, пофордыбачил! Мы-де от вас приказов не принимаем! Примете, голубчики, все примете, потому нет важнее Тайной канцелярии!
Ушаков всей душой ненавидел Густава Бирона за то, что он при каждой встрече третировал его. Но все же ведь это был брат герцога, и Андрей Иванович молча таил свою ненависть.
"Ну уж и разукрашу я твоего офицера, — думал он, — останешься доволен".
Теперь следствие будет закончено быстро. Очные ставки, пытки, перекрестный допрос… герцог останется доволен.
В тот же день Ушаков отдал распоряжение узнать у Кочкарева, не имеет ли он в чем нужды, в одежде, еде, и все ему доставить.
Посулить еще и лучшее помещение.
Кочкарев был поражен такой переменой. Ему действительно выдали новую одежду, переменили матрац, подали хороший обед.
Надежда шевельнулась в его сердце.
Андрей Иванович знал, что делать. Он чуть не мурлыкал от удовольствия. Это был один из его излюбленных приемов: измучить человека, потом оживить его надеждой и, наконец, сразу показать весь ужас и всю безнадежность положения. Он на практике видел, какое потрясающее впечатление производил этот прием на самых сильных людей.
Павлуша переносил свое заключение сравнительно легко, хотя камера его была не лучше, чем у Артемия Никитича. Но он был молод, силен и смел. Кроме того, он не терял надежды. После первых минут ужаса при мысли о пытках в Тайной канцелярии он приободрился и подумал, что не всех же пытают, что все же он офицер императрицына полка и, наверное, к нему отнесутся с некоторой осторожностью.
Его предположения как будто даже подтвердились на первом же допросе.
Ушаков расспрашивал его со своей обычной вкрадчивой ласковостью, выражал ему полное сочувствие и незаметно для Павлуши выведал от него все самые подробные сведения об его отношении к семейству Кочкаревых.
Многолетняя практика, природная проницательность позволяли Ушакову быстро, по намекам, уяснять себе суть отношений и поступков, и не прошло и четверти часа, как он безошибочно решил, что юный сержант без памяти влюблен в дочь Кочкарева.
Его изобретательный ум уже работал над тем, как учесть это чувство при допросе.
А Павлуша, обманутый ласковой внимательностью генерала и желая обелить совершенно Кочкарева, об обвинении которого упомянул ему сейчас Ушаков, с увлечением говорил о том, как честен и благороден сам Артемий Никитич, как добры его жена и воспитанная им племянница и как любимы они своими крестьянами.
Ушаков был чрезвычайно доволен первым допросом, был доволен и Павлуша, уверенный, что его дело находится в верных руках.
Ободрился немножко духом в последние дни и Артемий Никитич под влиянием перемены к лучшему в условиях его жизни.
Была поздняя ночь. Кочкарев крепко спал, что было с ним редко. Обыкновенно голод, холод и насекомые не давали ему хорошо спать, превращая его сны в кошмары…
Дверь его камеры резко открылась. На пороге показался караульный офицер в сопровождении двух солдат и сторожа с фонарем.
Красный свет фонаря зловеще освещал грязную камеру и лежавшего в углу на соломенном тюфяке без одеяла скорчившегося от холода, худого старика, с измученным и страдальческим лицом, обросшим седыми волосами.
Сторож подошел и грубо тряхнул за руку узника.
Артемий Никитич с недоумением открыл глаза.
— Ну, вставай, что ли, — крикнул сторож.
— Артемий Кочкарев! К допросу! — вслед за ним крикнул офицер с порога.
Артемий Никитич с трудом встал. Ему не надо было одеваться, так как он из-за холода не раздевался на ночь. Он заметно дрожал, даже стучали зубы.
— Я готов! — тихо ответил он и, покорно опустив голову, пошел за офицером по коридорам, уже ставшим ему знакомыми.
Темный путь освещал красным светом фонарь сторожа. В тишине гулко отдавались звон сабли офицера и тяжелые шаги солдат.
Но скоро Артемий Никитич уже перестал узнавать коридоры. Его повели новым, незнакомым путем. Если прежде приходилось несколько раз подниматься, то теперь, наоборот, раза два пришлось спуститься с невысоких лестниц. И самый путь показался ему значительно длиннее прежнего.
Но вот в конце коридора показался свет, как бы из щели. Кроме того, на Артемия Никитича пахнуло струей теплого воздуха. С каждым шагом ему становилось все жарче… Он не понимал, что это… и вдруг, прорезая ночную тишину, по коридору пронесся неистовый, отчаянный вопль. Он вырвался из-за двери, за которой горел огонь.
Артемий Никитич остановился. Волосы зашевелились на его голове.
— Куда вы меня ведете? — хрипло спросил он.
— Ну, иди, что ли, чего стал! — злобно крикнул солдат и больно ударил его прикладом по ногам.
Но что значил этот удар в сравнении с тем ужасом, который охватил старика, когда он понял, что ждет его.
Распахнулась дверь. Раскаленный воздух пахнул в лицо Артемия Никитича. Было жарко, как в бане. Он увидел большой подвал с каменным полом и с каменными сводами. Казалось, сами камни были раскалены. В углу пылал огромный горн, и около него суетились люди, обнаженные до пояса. Под сводами виднелись балки с блоками, с веревками. Странные машины стояли то тут, то там с пилами, зубчатыми колесами. За большим столом, освещенным несколькими сальными свечами, сидел без мундира с расстегнутым воротом шелковой рубахи Ушаков и по бокам его двое чиновников.
В тот момент, когда входил в застенок Кочкарев, в другую дверь выносили какую-то кровавую массу.
Ушаков вытирал платком беспрестанно выступавший на лысине и лице пот и улыбался своей обычной добродушной улыбкой.
— А, Артемий Никитич, добро пожаловать, — громко приветствовал он вошедшего Кочкарева, — а мы здесь умаялись. Шуточное ли дело, в таком пекле с утра работаем. Ух, тяжко! Да ничего не поделаешь. Долг — первое дело. Вот уж воистину в поте лица хлеб зарабатываем.