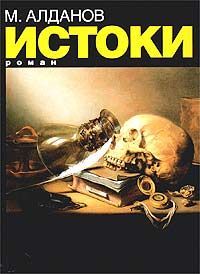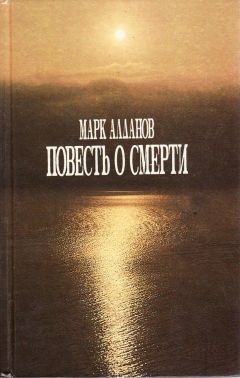Мамонтов вяло поддерживал разговор, скучал и досадовал, что принял приглашение на обед. «Можно было пообедать с Катей, пожалуй, даже вдвоем: Рыжков собирался ужинать дома. Но неудобно было отказываться от приглашения. Теперь скоро конец, и я еще попаду к Кате… После этого дрянного компота будет кофе, вопрос о том, подадут ли его здесь или в гостиной; если здесь, то через полчаса можно будет проститься, но если перейдут пить кофе в гостиную, то, значит, начинается второе действие пьесы… Кажется, она еще похорошела», — думал Мамонтов, глядя на Софью Яковлевну. Его безошибочная память художника сохранила ее точно такой, какой она была полтора года тому назад. «Ей, должно быть, года тридцать два? Мальчику тринадцатый… Да, Михаил говорил, что он двумя годами ее моложе. Бальзаковский возраст… Есть ли у нее любовник? Неужели она верна этому тупому старому немцу? Не выставить ли свою кандидатуру? Конечно, она красивее Кати, но Катя в сто раз лучше. Эта — сюжет для скульпторов».
— О нет, я не отрицаю гения Бисмарка, однако ничего не надо преувеличивать, — почти механически сказал Николай Сергеевич, сам удивляясь тому, что его замечания выходят все же складно, хотя он думает совершенно о другом. Пьеса оказалась в двух действиях: Софья Яковлевна велела подать кофе в гостиную.
— Меня прошу извинить, — сказал, поднимаясь, Дюммлер. — Кофе мне запрещено, и доктор велит после обеда лежать не менее часа. Надеюсь, завтра увидеть вас на водах, — обратился он к Мамонтову, очевидно, не выражая желания, чтобы гость оставался очень долго. Хотя Николай Сергеевич только и мечтал о том, как бы уйти пораньше, нелюбезность хозяина его раздражила: все в этот вечер раздражало его у Дюммлеров. Юрий Павлович кивнул головой и вышел. В конце обеда он опять почувствовал боль в боку. Эта боль надолго связалась в его памяти с гостем, пришедшим в их дом в день ее появления. За отцом скрылся Коля. Горничная внесла зажженные канделябры, затем стала зажигать свечи в гостиной. Их задувал легкий ветерок из сада.
— Очень способный мальчик Коля, — сказал после минуты молчания Черняков. — Еще два года тому назад не было более шаловливого ребенка во всем Петербурге. Теперь он присмирел, но глубоко презирает всех нас.
— Да что ты выдумываешь. Миша!
— Не сердись, Соня, это так.
— Ну, а что же ты сам делаешь теперь? Над чем работаешь? — спросил Мамонтов.
— Немного работаю над курсом, который буду читать в предстоящем семестре. Читаю… Представь, на днях я от скуки съездил в Кобленц и за бесценок купил у букиниста отличнейшее издание Шеллинга. Знаешь, четырнадцатитомное издание его сына, в хорошем переплете. Ты понимаешь, что это такое для страстного шеллингианца, как я!
— Я знал, что ты библиофил, это в тебе самое подлинное, но я не знал, что ты страстный шеллингианец. Верно, для оригинальности, потому что все наши философы кантианцы или гегелианцы, — сказал Мамонтов, перенесший свое раздражение на Михаила Яковлевича. Тот поднял брови чуть не до верхушки лба.
— Какой вздор ты несешь!
— Все-таки ты не станешь говорить мне, что в твоей жизни Шеллинг или какой бы то ни было вообще философ играет какую бы то ни было роль, — сказал неприятным тоном Николай Сергеевич. Софья Яковлевна смотрела на них с улыбкой.
— К кофе я велю подать коньяк и ликеры, это, быть может, умиротворит страсти… Прошу вас извинить дурной обед, — смеясь обратилась она к Мамонтову. — У нас немецкая кухарка, этим все сказано. Кроме того, Юрию Павловичу все вкусное запрещено. При нем я не даю вина, чтобы не вводить его в соблазн, но…
— Софья Яковлевна, вы дома? Добрый вечер, — послышался через гостиную из сада чей-то очень звучный, приятно грассирующий мужской голос. Софья Яковлевна вдруг изменилась в лице, быстро поднялась и вышла в гостиную. Мамонтову показалось, будто она хотела было задвинуть дверь между обеими комнатами, но удержалась. Он вопросительно посмотрел на Чернякова, тот с недоумением пожал плечами.
— Кого это еще Бог принес? Мы никого, кажется, не ждали, — вполголоса сказал он.
— Меня княжна прислала… Здравствуйте, дорогая, позвольте через окно ручку поцеловать… Княжна у ваших ворот в коляске. Не хотите ли поехать с нами кататься? — говорил тот же грассирующий голос. В столовой неожиданно появился Дюммлер, на ходу застегивавший жилет, Он бросил страшный взгляд на Мамонтова и Чернякова, поспешно прошел в гостиную и исчез за дверью, сделав попытку задвинуть ее за собой. Тяжелая дверь не сдвинулась.
— Ваше величество, как я счастлива! — сказала Софья Яковлевна слегка срывающимся голосом.
— Это государь! — прошептал Черняков.
— Какой вечер, а? Я чудом нынче освободился: удрал от дяди Вильгельма. Он, что и говорить, мудрый император, но мне с ним смертельная скука, — говорил веселый голос. — Ах, какая была эти дни жара! Но теперь дивно! Луна какая, а? Едем, право? Мы к замку собираемся. Рейн так пышен при высокой полной луне! Княжна меня послала к вам на огонек:
Спит иль нет моя Людмила?
Помнит друга иль забыла?
Весела иль слезы льет?
— Помните, а? Нет, попались, вовсе это не из «Руслана и Людмилы»! Это моего покойного учителя Жуковского. Я наизусть выучил к его рождению и, представьте, не возненавидел его, и сейчас все помню:
Вот и месяц величавый
Встал над тихою дубравой:
То из облака блеснет,
То за облако зайдет;
С гор простерты длинны тени;
И лесов дремучих сени,
И зерцало зимних вод,
И небес далекий свод
В светлый сумрак облеченны…
Спят пригорки отдаленны,
Бор заснул, долина спит…
Чу!.. Полночный час звучит.
— Но до полночного часа еще далеко. Едем, дорогая, дайте ручку, я еще раз поцелую.
— Ваше величество, благоволите взойти к нам. Вы нас осчастливите, — взволнованно сказал в саду Дюммлер. — Мы…
— Ах, это вы, Юрий Павлович? — гораздо менее радостно сказал император. — Нет, какое взойти к вам! Это в другой раз. Меня ждут. Едем, Софья Яковлевна, а? Как жаль, что вы нездоровы, Юрий Павлович, да и коляска тесная, — не слишком церемонно добавил он. Видимо, царь совершенно не собирался звать Дюммлера, и это доставило чрезвычайную радость Николаю Сергеевичу. На пороге показался Коля.
— Это государь! Ах, какие у него лошади! — восторженно прошептал он. Черняков приложил ко рту палец и посмотрел на племянника так, как только что на него самого смотрел Дюммлер.
Николай Сергеевич, не прощаясь, вышел через кухню и обошел дом, направляясь к выходу. Сад был слабо освещен луной. Подстриженные деревья бросали черные тени. Остановившись у забора, Мамонтов увидел, как Дюммлер страшными знаками что-то показывал выходившей жене. Софья Яковлевна приятно улыбалась: прорыв в ее самоуверенности продолжался не более минуты. Царя, стоявшего у бокового окна по другую сторону виллы, Мамонтов не видел. Издали снова послышался тот же голос, только теперь еще более радостный:
Что, родная, муки ада?
Что небесная преграда?
С милым вместе — всюду рай;
С милым розно — райский край;
Безотрадная обитель…[68]
«Все-таки жалко уходить, другого такого случая в жизни не будет», — сказал себе Николай Сергеевич и, осторожно ступая по рыхлой земле, спугивая блестевших на луне лягушек, пошел вдоль забора к калитке. Его никто увидеть не мог. На улице у ворот стояла коляска с фонарями, запряженная парой английских лошадей, с бритым английским кучером. Высокая дама с улыбкой смотрела в сторону сада. В полосе света появились государь и Софья Яковлевна. Александр II остановился у коляски, мотая отрицательно головой: очевидно, он не хотел занять место на задней скамейке.
— Нет, нет, за границей я не государь, здесь я просто никто… Не хотите? Also nach Stolzenfels[69], — весело сказал он своим звучным, далеко слышным голосом.
Железная дорога была выстроена лишь недавно, и маленький живописный, с садиком при каждом доме, южный городок неожиданно превратился в важную станцию. Через нее был проведен телеграф, еще мало распространенный в России. Под вечер, к приходу двух главных поездов, на вокзале (это слово в его новом значении уже вошло в общее употребление) собиралась местная интеллигенция, среди которой главенствовали киевские и одесские студенты, жившие на кондициях у дачников и у местных помещиков. На вокзале стоял смешанный запах дыма и цветов. В окружавшем вокзал садике и по другую сторону железной дороги росли сирень, черемуха, акации, розы. Обмахиваясь платками и шляпами, отгоняя бесчисленных мух, люди торчали на вокзале до ужина. Места на трех скамейках перрона брались чуть не с бою и передавались по соглашению. В буфете, у длинного стола с огромным самоваром, с сеточками, поверх тарелок и блюд, дачники спорили о том, сколько нажили концессионеры на постройке дороги и кто из должностных лиц какую взятку получил. С гордостью говорили, что городок как узловой пункт имеет важное стратегическое значение на случай войны с Австрией. Старожилы слушали рассказы о взятках с полным веры любопытством, а о стратегическом значении довольно недоверчиво: они не знали, что их городок — пункт, и сомневались, чтобы могла начаться какая-то война, да еще не с турками, а с Австрией: никогда такой войны не было, и вообще на этих местах со времен запорожцев никто не воевал.