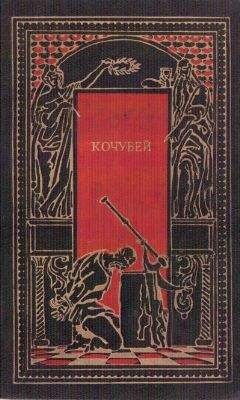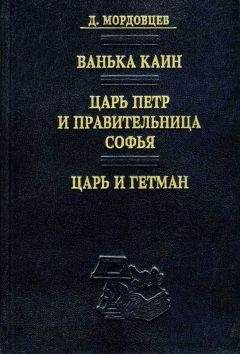Вот и теперь перед женитьбой он надумал навестить эту ведьму-матушку и испросить у неё родительского благословения, тем более, что, возвращаясь из похода с правобережной Украйны на левобережную, он заехал в Киев, как для свидания с киевским воеводою князем Димитрием Голицыным, так и для закупки подарков и приданого для своей невесты.
Мазепа приехал в монастырь в богатой берлине с двумя сердюками позади. Лицо его после продолжительного похода по Заднепровской Украйне для восстановления покорности в бывшей Палиивщине казалось усталым, несмотря на густой загар, наложенный на него южным солнцем, что ещё более выдавало сивизну его головы и усов, ставших в последние три года совсем белыми, чисто серебряными. Таким же серебром отливала пара отличных серых коней, запряжённых в берлину, обитую внутри малиновых бархатом, к которому и была прислонена лукавая сивая голова гетмана.
Выйдя из берлины, он направился по монастырскому двору, пестревшему всевозможными цветами, прямо к келье игуменьи. Встречавшиеся ему монашенки робко и низко кланялись, не глядя на него, а попавшаяся на пути кудластая чёрная собака, взглянув в добрые глаза гетмана, поджала хвост, и, словно укушенная августовскою мухою, бросилась под ближайшее крыльцо. Далее попалась молоденькая черничка с большими чёрными глазами, хотела, по-видимому, их спрятать, но не успела: вспыхнула, поклонилась и тоже, как собака, юркнула в сторону. Мазепа проводил её глазами и вступил на знакомое крыльцо.
В сенях не оказалось никого, в первой просторной келье — тоже. Окна открыты в сад. Пахнуло запахом цветущей липы и листьями увядающей розы; это на окне, на листе синей бумаги сушились розовые лепестки на солнышке. В соседней келье сквозь полуоткрытую дверь слышны голоса.
— Я, бабусю, принесу кутику червоную ленточку на шею, — щебечет детский голосок.
— Червоную нельзя, дитятко, — отвечает старческий голос.
— Отчего, бабусю.
— Котик живёт в монастыре, а в монастыре ничего червоного нет.
— А цветы, бабусю?
— То цветы Божьи сами червовые, а носить на себе червоного нельзя.
— Та котик же, бабусю, не монах...
Мазепа улыбнулся и тихо отворил дверь, он всё делал тихо, как-то неожиданно, словно пугал.
— Те-те-те! Старе и мале котиком забавляются, — сказал он, входя во вторую келью.
В этой келье, просторной, светлой, с богатыми образами в переднем углу и с цветами на окнах, в глубоком кресле, наподобие ниши, сидела старушка, по-видимому, глубокой старости. Она была в монашеском одеянии, хотя по-келейному, но с перламутровыми чётками на правой руке, и вязала чулок. Маленькое, от старости сжавшееся личико было необыкновенно бело, так что едва отличалось от таких же белых, сухих и мягких, как лен, волос, выбившихся из-под чёрного платочка, охватывавшего всю голову. Сухой, горбатый, как у копчика нос, острый, кверху поднявшийся подбородок, полное отсутствие губ, давно и безвозвратно втянутых беззубым ртом, и небольшие серые, круглые, как у птицы, глаза невольно приковывали внимание к этим живым останкам человека. Но что особенно било в глаза, так это чёрные брови, непонятным образом уцелевшие среди общего отцветания этого ветхого существа и придававшие какую-то молодую живость птичьим глазам.
У ног старушки забавлялся огромным клубком чёрный котик, а около него на полу же сидела девочка, одетая негородскому: в белой с узорами сорочке и в голубой юбке.
После первого восклицания Мазепа подошёл к старушке, низко наклонил голову и подставил почти к самому носу маленького съёжившегося существа обе ладони пригоршней для благословения.
— Благословите, мамо и матушка игуменья, — сказал он тихо, опустив глаза.
Старушка подняла свои, сделала головой движение, как бы клюнула клювом Мазепу, положила на колени чулок, снова клюнула и благословила, гремя чётками.
— Во имя Отца и Сына... Бог благословит...
— Живеньки-здоровеньки, мамо? — спросил гетман, целуя руки матери.
— Живу... Вот последние панчошки плету себе для дороги на тот свет, — и она указала на чулок. — Далёкая дорога!
— Далёкая, мамо, далёкая... только, Бог даст, ещё поживём.
Старушка махнула сухой ручкой. — Что уж об нас! А вот как ты, сынку, живёшь?
— Да, я, матушка, сейчас из походу, до Львова доходили, всю тогобочную Украйну ускровнили, а то Палий её избаловал ни на что... Заезжал и до дому до ваших местностей...
— А! Пусто там?
— Нет... Только хлопы того дуба срубали, что вы посадили в день моего рождения.
Старушка вздохнула и молчала. Мазепа тотчас переменил разговор.
— А! И Оксанка тут! — ласково обратился он к девочке. — У! Какая большая стала дивчина... Л очи, ай батюшки, ещё больше стали... Ух, боюсь Оксанкиных очей...
Девочка рассмеялась, взяла кошку на руки и стала её гладить.
— Так червоною ленточку ему нельзя? — улыбаясь, шутил Мазепа.
— Нельзя, грех... А я ему беленькую, шёлковую стричечку принесу, — заговорила девочка.
— Ну, добре. А что батько, старый Хмара?
— Татко до Запорожжа поихали с козаками.
— А мати в городе?
— Мама дома.
— Ну, скажи матери, что я буду к ней в гости: пускай ковбаски готовит.
Болтая с девочкой, Мазепа украдкой поглядывал на мать. Та, с своей стороны, молча вяжучи чулок, нет-нет, да и клюнет сынка, да опять в чулок спрячет свои птичьи глаза.
Но надо было начать о деле, а при девочке нельзя, не годится о таком важном деле при посторонних говорить. Мазепа взглядывает сначала на мать, потом на девочку. Ждать некогда...
— Ну, Оксанко, — говорит он ласково, — возьми, дивчинко, котика да пойди, поиграй с ним у садочку.
Девочка поднимает на него свои большущие глаза.
— У! Яки очи велики! Боюсь-боюсь их! Беги отсюда.
Девочка с котом на руках выбежала из кельи, а мать Мазепы, положив чулок на колена, устремила на сына безмолвный, вопросительный, скорее испытующий взор... «Что он задумал? О чём намерен лгать и для чего? Или в первый раз в жизни хочет правду сказать?» — говорили пытливые глазки матери-игуменьи.
Мазепа пододвинул к ногам матери складную кожаную табуретку и опустился на неё. С минуту и тот, и другая молчали. Мазепа сидел, опустив голову и устремив глаза на колена матери, на чулок, белевшийся на них. В памяти у него мелькнуло светлой искоркой, как он маленьким сидел, бывало, на этих коленях и играл дорогими ожерельями, блестевшими на белой точёной шее матери. Как давно это было! Не видать теперь и шеи белой, да и какая она теперь!.. А мать, глядя на седую, наклонённую голову сына, тоже вспомнила белокуренькую головку Ивася... Седая уж и она, да как седа!.. Так и сжалось старое сердце — руки дрогнули...
Мазепа наклонился, взял эти маленькие, сухие, сморщенные руки и молча стал целовать их... Ещё больше дрогнули руки.
— Что, Ивасю? Что с тобой, сынок? — дрогнул голос у старушки.
«Ковалику-ковалику! Скуй меня пичку, таку невеличку...», — доносился со двора весёлый напев Океании.
Мазепа выпрямился и глянул в глаза матери. Он прочёл в них давно, почти никогда невиданную нежность, и в сердце у него шевельнулось что-то острое... «И я бы был добрее, если б эти глаза добрее были», — сказалось у него в душе как-то невольно.
— Матушка! Благослови меня на доброе дело, — выговорил он, наконец, нерешительно.
— На доброе дело я всегда благословлю тебя, — отвечала игуменья. — Какое ж это дело, сынку?
— Я хочу в малжонство вступить, жениться.
— Жениться! В твои годы!.. А сколько тебе?
И старушка стала нетерпеливо перебирать чётки, как бы считая годы, десятилетия. Голова её дрожала, впалый рот жевал что-то, круглые глазки стали ещё круглее... У Мазепы меж бровями прошла складка, га историческая складка, которую заметил раз и царь Пётр Алексеевич, когда во время одного буйного пира, разгорячённый вином и неловким замечанием Мазепы, он дёрнул гетмана за сивый ус; заметил эту складку и Палий перед тем, как Мазепа велел его заковать в железа... Он не отвечал на вопрос матери.
— Восьмой десяток давно... не поздненько ли, сынку? — продолжала старушка.
— Не в летах дело... Аще в силах, говорит святое Письмо... Могий вместити, да вместит, — сказал он резко.
— Так-то так... Ну, да это твоё дело... Ты не мала дитина обдумал, поди... Тебе жить... — Старушка как будто смягчилась и снова взяла чулок в руки. — А кого вздумал взять?
— Кочубеивну...
Старушка откинулась назад, заторопилась и спустила петлю. Сначала она не знала, что сказать — и то глядела на сына, то на чулок, как бы со стороны ожидая разрешения своего недоумения.