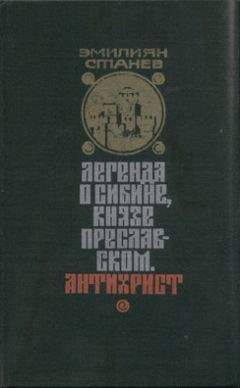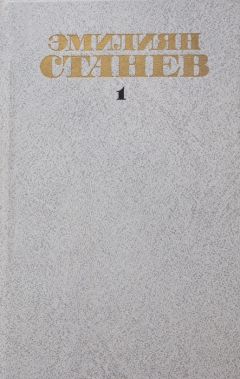Шеремет-бег приказал унести мертвое тело, кошель с золотом взял себе, а двое варваров затеяли спор из-за платья убитого, поскольку было оно дорогое, из златотканой материи.
Руки и ноги у меня дрожали, но я притворялся спокойным, будто и не слышу происходящего вокруг. Той ночью во многих домах болгары оборонялись, кое-где запылали пожары. Когда опись была завершена, я незаметно выскользнул за дверь и маленькой улочкой направился к нашему дому в надежде разузнать что-нибудь о матушке и сестре.
Дом наш был полон агарян, и я повернул назад…
Сулейман отправил к Баязиду гонцов, чтобы сообщить ему радостную весть и получить повеление, как поступить с жителями города. Варвары успели тем временем разграбить все царские гробницы, церкви и дворы. А когда повеление прибыло, султанов сын оставил воеводой одного из пашей и спешно отбыл к отцу, ибо обещал он не грабить город, и оказался бы лжецом.
Уже на следующий день глашатаи стали объявлять султанов указ — чтобы кожевники и прочие ремесленники занимались своим делом, ни один волос, дескать, не упадет с их головы И купцы чтобы отворяли лавки, а кто не хочет быть райей[3], пусть примет истинную веру… Дервиши, муллы и обращенные в мусульманство рабы пошли увещевать людей, и малодушные уступали искушению. Первым принял турецкую веру один болярин, его провезли на богато украшенном коне, позади следовали вооруженные до зубов варвары, ликовали зурны и барабаны, а жена болярина, закутанная в чадру, плакала. Шествие спустилось с Царевца вниз, на показ бедному люду. Пробил тогда роковой час, час великого жертвоприношения ста десяти самых видных людей города, заплативших кровью своей за твою славу!.. Ревнитель слова и премудрости, не наслаждался ли ты, представляя себе, как ангелы божьи восхищенно склоняются над их душами? Когда вышел ты из церкви святых Петра и Павла вразумлять малодушных, и поднялся в отчаявшемся народе великий плач, и, точно стадо за пастырем, двинулся он за тобой, внимая страшным словам твоим, турки потирали себе руки, ибо увидели повод для новой резни и грабежа. Из Царева города проклинал я твоё безумие, а душа рыдала пред величием гибельной веры твоей. О, ведома была тебе червоточина в сердцах и умах твоей паствы, разъеденной ересями, и ведомо также, что не менее опасна она, чем варвары! Своими глазами видел ты христианских вассалов Баязида и тех, что надевали или готовы были надеть чалму и умножить рать нечестивых. Однако ж, ободряя, утешая и благословляя, ты разъярил варваров и турка-воеводу, и после святых Седьмочисленников — дня, когда ты нарочно придал литургии наибольшую торжественность, турок повелел самым знатным горожанам явиться к нему в большую болярскую церковь (ту самую, куда некогда вошел я, чтобы узреть Сатану), и чтоб каждый привел первородного своего сына. Своими глазами видел я, как заняли янычары церковный двор, как они же сторожили двери изнутри и снаружи. Когда жертвы вступили в храм, Шеремет-бег, стоявший в доме протовестиария у окна, погладил бороду и сказал своим приближенным: «Эти поганцы либо выйдут оттуда правоверными, либо достанутся орлам. Ежели орлам — приберем мы к рукам их добро». Я слышал стоны и звон ятаганов, яростные крики янычаров. Убили чад твоих, бросили тела их на Орловце. И Шеремет-бег получил во владение две деревни под самым Тырновградом…
А когда стало сие злодеяние известно, повелел ты отпеть души мучеников, и забили погребальным звоном клепала, поднялся плач и стон, и у всех, от мала до велика, сердца наполнились болью и гневом. Восхищенный убитыми воинами Христовыми, пожелал ты последовать за ними. И посейчас вижу, как шествуешь ты, опираясь на патриарший свой посох, по оскверненному, потоптанному, разоренному Цареву городу, той улицей, что ведет к дворцу, по которой некогда прошел и я во вретище, оплеванный и осыпанный пеплом. Варвары сбились в кучу, онемев от величия твоего и дерзости. Не глядя по сторонам, прямой, седовласый, с бледным, осененным благодатью лицом, шел ты изобличать обманщика-турка, готовый встретить «юницу с нежными дланями».
Нескончаемые жертвы, святитель, заливают кровью своей земные алтари, и был ты одним из жрецов зловещего того таинства! Не стану я есть хлеб с твоей трапезы, сидеть за твоим столом, у народа — стол иной, тех бедствий, что принесли мы ему, и возложил он на него истерзанное тело своё…
Но отчего словно денница после кромешной ночи загорелось во мне желание видеть тебя и говорить с тобой? Оттого ли, что хотел я вновь уверовать в недостижимое, или оттого, что хотел остановить безумие твоё?
На коленях молил я агарянина о дозволении. И он согласился, ибо не мог без меня — некому было писать для него и считать, а также и веселить его. Он видел во мне повредившегося умом бывшего монаха и требовал, чтобы перешел я в турецкую веру, грозил, что призовет трех мулл совершить надо мной обряд, но произойдет это в Никополе, дабы позабавить султана и пашей. После того, как поклялся я, что надену чалму, приказал он двум стражникам проводить меня до церкви…
Светил над городом лунный серп, чтимый турками так же, как мы чтим крест. Мы шли мимо лишенных крова людей, валявшихся на улицах и в дворах. Сновала туда-сюда стража, отовсюду доносился плач детей, стенанья престарелых и больных, мольбы голодных. Янтра уносила прочь воспоминания о прошлом Тырновграда, выли одичалые псы, пылали костры во множестве мест, где варвары жарили баранов. Наконец приблизились мы к церкви. Снаружи стерегла стража, не пускавшая к тебе народ. Я постучался в пристройку, отведенную для священника, ожидая услышать твой голос. Сердце моё колотилось, дыхание прерывалось, мысли путались, и я забывал, что вознамерился сказать тебе. Изнутри отозвался незнакомый голос, спросил, кто там. Услыхав приказ стражников, он отворил, и взору открылись два одра. На нас смотрел молодой дьякон с черной, как смоль, бородой. Он вытаращил глаза, лицо побледнело и вытянулось. В железном подсвечнике на низком столе горела свеча, на стене, перед большой иконой Вознесения — лампада. Дьякон на греческом спросил, что нам нужно. Я не ответил ему — глаза мои искали тебя. И увидали — ты стоял на коленях спиной к двери, без камилавки, в подряснике, и в первую минуту подумалось мне, что ты беззвучно молишься.
Агаряне заглянули в дверь, и дьякон сказал: «Твоё преосвященство, пришли…» И когда обернулся ты, увидал я, как поседел ты. Волосы твои, заплетенные в поредевшую косицу, блеснули точно шелк на стариковских плечах, лицо, изборожденное глубокими морщинами — следами непреклонной воли и изнурительных бдений, было смертельно усталым, но глаза зоркие, с живым блеском. Я ожидал, что ты узнаешь меня, но ты смотрел на меня, как человек, пробужденный ото сна, и только спросил, что нужно нам. Я знаком попросил варваров отойти, закрыл за собой дверь и сказал: «Не узнаешь, владыко? Теофил я, сын Тодора Самохода, заклейменный вами как еретик». Мы смотрели друг другу в глаза, и ты поднялся с колен. Я думал, что увижу в твоём взгляде растерянность из-за моего появления, следы ужаса, пережитого тобою в тот день на крепостной стене, но не увидал ни того, ни другого. Ты смотрел на меня с подозрением, видимо, решил, что принял я мусульманство, и я добавил: «Раб я у агарян, слуга Шеремет-бега».
Услыхав, кто я, дьякон опустился перед иконой на колени и стал молиться. Лампада потрескивала, по низкому потолку клубились тени. И когда молчание сделалось нестерпимым, ты заговорил, но словно с самим собой: «Да, это ты… Зачем пришел? Для того ли, чтобы судить меня? Не может ныне идти речь о тех, кто сам отлучил себя от церкви, но обо всём стаде…» Твой взгляд избегал смешного лица моего, выглядевшего зловеще в ту скорбную ночь, и я знал, что оно обвиняет тебя. Но мог ли быть испуган либо удивлен тот, кто тысячи раз лицезрел Сатану и пережил все ужасы в этом городе? Дивясь самому себе, произнес я давно приготовленный вопрос: «Зачем посылаешь на смерть достойнейших из паствы своей и даешь агарянам повод к новой резне и грабежам? Не различаешь ли козней дьявола?.. Что получилось из горнего твоего Иерусалима, во имя которого жгли вы меня каленым железом? Простолюдин Магомет посмеялся над нами, и ныне выглядим мы шутами и глупцами. — И, сам испуганный дерзостью вопросов своих, добавил: — Хоть и антихрист я, душа у меня человечья и страждет она. Не гневайся на меня, отче».
Увидал я в глазах твоих то выражение твердости и неукротимой веры, которое поражает душу и убеждает её сильней, нежели наисильнейшие слова, и которое помнил я ещё с дней монастырской моей жизни. Но тут же подумалось мне, что и мои глаза глядели некогда так же, и должно ли поэтому верить тебе?.. Ты же, наклонив утомленную свою голову, смиренно молвил: «Вижу, пришел ты судить меня, блудный сын не вернулся в отчий дом. Но и в нём жива надежда коснуться рукой духа, дабы вещественно ощутить его. Ужель не разумеешь ты, что варвары пролили невинную кровь достойных на позор себе и народу болгарскому во спасение? Но если стыдишься ты рабства и страданий наших и позором нарекаешь их, отчего не обратился в веру агарянскую? Всякий любящий себя более, нежели Бога, сдается, как сдались уже многие слабые духом».