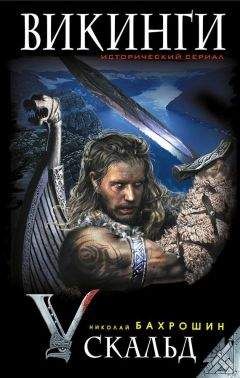Морская дорога, вечная дорога викинга…
Путешествие по суше – это совсем другое. После каждодневной замкнутости общины Ранг-фиорда оно надолго запомнилось Сьевнару обилием впечатлений, встреч, лиц, застолий и разговоров. Пожалуй, он первый раз видел все разнообразие жизни народа свеонов. Начал понимать, почему молодые воины часто уходят из своих фиордов служить в дружинах далеких ярлов.
Тяга к переменам неистребима в людях, рассуждал Сьевнар, всегда кажется, что там, за горизонтом, тебя дожидается другая жизнь и новые, неизвестные радости. Пожалуй, это достойно отдельного флокка. Жалко, что стихи больше не звучат внутри.
Сангриль… Его любовь и его проклятие… Выжгла его дотла, как пожар выжигает деревянные постройки, оставляя лишь черное пятно пепелища. И кто придумал, что любовь вдохновляет поэтов? Ничего она не вдохновляет, просто обжигает разум до рубцующихся ран. Скальду, чтобы петь о любви, никогда не нужно влюбляться, горько вывел он для себя…
Отдельно остался в памяти дом одного пожилого крестьянина, почти старика, согнутого в пояснице так, что при ходьбе ему приходилось опираться на две деревянные клюшки. Сьевнар знал, есть в фиордах такая болезнь, которая сгибает человека в поясе, как штормовой ветер гнет тонкие деревца, и не дает разогнуться до самой смерти. У старых воинов, много ходивших по водным дорогам, надрывавших силы в круглосуточной гребле, она встречается особенно часто. Кто-то из знахарей утверждал, что такая болезнь образуется от колдовства троллей, завидующих славе людей, другие считали, что виноваты злобные заклятия великанов, третьи обвиняли самого Черного Сурта, предводителя сумеречного мира Утгарда, но никто толком не мог сказать, почему она вдруг сгибает сильных людей, сразу делая их старыми и слабыми.
Старика звали… Да, Олаф по прозванию Двупалый. На левой руке у него действительно оставалось только два пальца, большой и указательный. Остальные начисто снесены ударом меча, наметанным глазом определил воин. И половина уха отрублена, это тоже бросалось в глаза. Бывалый человек.
Его дом показался Сьевнару небольшим, хозяйство – не богатым, но по добротной одежде и по многим бытовым мелочам можно было определить, что хозяин не бедствует на своем хуторе. В столбы, подпирающие крышу дома, вбиты крюки, на них, кроме обычной хозяйственной утвари, гость увидел добротную кольчугу хитроумного многослойного плетения, шлем, наручи, поножи и прочее воинское снаряжение. Все – не простое, украшенное узорами и золотым витьем. Оружие заботливо начищено и смазано салом, ни пятнышка ржавчины.
Значит, точно воин… Судя по дорогому оружию – знатный воин. Тоже ходил когда-то дорогами викинга, привозил из набегов много богатой добычи, понял Сьевнар. Теперь хозяину нет надобности утруждать себя крестьянской работой.
Жил Олаф с женой, крепкой, коренастой и не улыбчивой с виду, и дочкой, совсем молодой девушкой.
В ответ на случайный взгляд гостя девица сразу выпрямилась, натянулась как тетива, так что под верхней накидкой остро обозначились две небольшие, острые грудки. Надменно обожгла воина темными большими глазами и тут же отвернулась, гордо вздернув острый подбородок и маленький носик.
Девушку звали Тора, узнал гость. Красивая девушка, ресницы – как стрелы, кажется, так и порхают в воздухе. Лучше рассмотреть ее Сьевнар не мог, побоялся, уж больно презрительно, словно бы с вызовом встречала она все его взгляды.
Обижена? – не понимал Сьевнар. А на что обижаться, если они первый раз в жизни видятся?
Сначала Олаф Двупалый радушно принимал гостя, долго и щедро угощал жареной свининой с заедкой из крутых каш. Поил крепким пивом, рассказывал, как сам когда-то бродил по водным дорогам с дружиной знаменитого морского конунга Энунда Большое Ухо. И двое его сыновей теперь в дружине у ярла Энунда, давно уже носа не кажут под родительский кров… А вот его, Олафа, крутит и жмет злая немочь, от которой пухнут и краснеют суставы и спина больше не разгибается. Ходит теперь гнутым как рулевое весло, мало что по земле не скребет зубами и носом, невесело ухмылялся хозяин. Жена все время готовит ему какие-то вонючие притирания, от которых пахнешь как куча коровьего навоза, но толку – чуть…
«Ешь, воин Сьевнар, ешь, а главное – не забывай заливать еду пивом, чтоб сухой кусок не застревал поперек живота. Ему, Олафу, теперь помогает только ядреное пиво, а все остальное – куча дерьма…»
Сам хозяин ел мало. Сетуя на ломоту в костях, больше потчевал гостя да налегал на спасительное пиво. После третьего или четвертого кувшина, надменно, словно бы с вызовом поданного Торой, Двупалого как подменили. Он снова, уже со злостью, все чаще и чаще поминая дерьмо, начал рассказывать, каким знаменитым бойцом был когда-то, как сражался двумя мечами впереди строя-фюлькинга, как мог грести сутками напролет, не уставая и не прося замены.
«Все знали тогда Олафа Двупалого, всем он был нужен, самые знаменитые конунги были рады видеть его за своим столом или на руме своего корабля!.. Спросишь, кто первым взобрался на Толстую башню Юрича в Гардарике и сражался там один против всех, когда дружины Рагнара Однорукого, Харальда Резвого, Энунда Большое ухо и других славных ярлов и конунгов брали на меч лесной гард?! Олаф Двупалый! – ответят тебе… Взбирался наверх – был трехпалым, а спустился вниз – уже с двумя пальцами и большой славой! – вспоминал бывший ратник. – А кому теперь нужен Олаф?! Кому теперь нужен старик, согнутый пополам, как треснувший лук?! Куда ушла прошлая слава, куда делась знаменитая сила? Почему растеклась в дерьмо? Может, хоть ты ответишь, Сьевнар Складный? Словно сами боги-ассы наказывают за что-то… Но за что?! За победы и подвиги в свою честь?! И где же тогда хваленая справедливость богов?! Ответь мне, Сьевнар Складный, если сможешь ответить…»
Воин не мог ответить. Он с удовольствием поговорил бы с хозяином о Гардарике, но случая так и не представилось и не мог вставить слово между жалобами и похвальбой. Двупалый, упиваясь все крепче, скоро перестал узнавать и гостя, и даже своих домашних, в голос ругался с кем-то, кого поблизости не было, неразборчиво грозил кому-то, выл, рычал и лязгал зубами, а то вдруг принимался хохотать, как безумец. То хватался за пиво, лил в рот и мимо, то бросался к оружию, но так и не мог разогнуться. Действительно, чуть не пахал носом земляной пол, спотыкаясь на клюшках. Падал, голосил и ругался.
Страшная, в общем, картина, решил Сьевнар. И жалко его, и противно смотреть. Горько. Был когда-то сильный и мужественный воин, а получилось – дерьмо… Именно оно, по-другому не скажешь!
* * *
Видя явное безумство Двупалого, Сьевнар не захотел оставаться на ночь под его крышей. Но и уходить прямо ночью, в темноту было неприлично, это уже прямое оскорбление хозяев – сорваться в путь среди ночи, словно в их доме зараза и гниль. Он отпросился на сеновал, отговорившись тем, что дал клятву богам не ложиться под теплым кровом пока не закончится его путешествие.
Тора, сменив гнев на милость, дала ему с собой два шерстяных одеяла, состеганных для тепла из нескольких слоев материи.
Под толстыми покровами, в душистом сене, которое, перегнивая, само дышало изнутри теплом, Сьевнар скоро согрелся и задремал.
И проснулся, когда кто-то навалился на него. Спросонья Сьевнар дернулся, извернулся, рывком сбросил нападающего, вдавил в мягкое сено, нашаривая оплетенную рукоять меча, что должен лежать где-то рядом. И только тогда опомнился, сообразил, что рядом с ним не мускулистое тело воина, а хрупкое девичье.
– Молчи, Сьевнар Складный, молчи, только не говори ничего…
– Тора?!
– Не надо ничего говорить, совсем не надо! Делай то, что должен делать мужчина.
«Тора! Откуда она здесь, почему здесь?!»
В риге было совсем темно, глухая крыша и добротные стены не пропускали ночного света звезд и луны. Сьевнар по-прежнему не мог увидеть ее лица. Только звонкий шепот у самого уха, ее ловкие, тонкие руки, помогающие ему и себе избавиться от остатков одежд. И незнакомый, пряно-травяной запах ее тела, упругость груди, прижимающейся к нему острыми сосками…
И он делал то, что должен делать мужчина.
* * *
– Ты можешь остаться… Если хочешь, конечно, – сказала она через некоторое время.
– Что? – не понял Сьевнар.
– Можешь остаться, – повторила она. – Можешь взять меня замуж и стать хозяином в нашем доме.
Теперь они лежали, прижавшись друг к другу. Одно одеяло расстелили под собой, вторым – укрывались. Вдвоем было даже жарко. Сено, спрессованное от долгой лежки, громко шуршало при каждом движении.
Сьевнару было хорошо и легко, как давно уже не было.
– А отец? – поинтересовался воин.