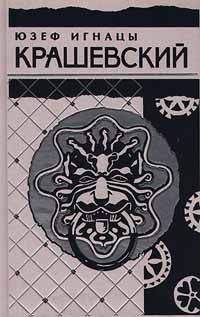Действительно, мы живем в эпоху совершенной равноправности всех состояний, и, собственно, различие между людьми кладется только воспитанием и образованием; а между тем сколько еще осталось предубеждений и предрассудков, о которых если не говорят громко, то думают втихомолку или поверяют их родным и приятелям!
Пан Мартын Скальский находился в том незавидном положении, что дважды в день принужден был и плевать на аристократию, и защищать ее. Например, если какой-нибудь граф кланялся ему с покровительственным видом и не подавал руки, пан Скальский должен был кричать о предрассудках и панской гордости; а если столяр Пеньковский приходил к нему в качестве родственника его жены и садился в гостиной, пан Мартын сердился на демократические обычаи этой сволочи.
При подобном порядке, Скальский не знал, к какому принадлежал свету, и это сильно его беспокоило.
Жена его гораздо смелее причисляла себя к панскому сословию, а относительно своих мещанских родных была строга, даже слишком.
О младшем поколении, воспитанном по-шляхетски, и говорить нечего. Панна Идалия, хорошенькая, живая, болтливая брюнетка, вышивала графские короны на платках, гербы на диванных подушках, говорила не иначе как по-французски или по-английски, разумеется, перед слугою, жаловалась на душную городскую жизнь и мечтала выйти за какого-нибудь богатого помещика. Пан Рожер, отлично окончивший курс наук в Берлине, познакомился там и жил в коротких отношениях с лучшим дворянством княжества Познанского и западной Пруссии, и, усвоив панские обычаи, прозябал, можно сказать, в отцовском доме, и прозябал поневоле, ибо ему страшно надоедали и родительский хлеб, и окружающее общество. Он говорил, что умрет с тоски, если не будет какой-нибудь перемены.
Понятно, что в городке он ни с кем не дружил и почти ни кем не разговаривал. Интимный его кружок составляли несколько окрестных помещиков. Подобное настроение семейства Скальских не могло приобрести ему много доброжелателей в городе. Правда, они ни с кем не ссорились, но их втайне ненавидели и немилосердно насмехались над ними.
Старый пан Мартын, лысый, с своей кругловатой фигурой и с носом в виде картофелины, был совсем не злой человек: подавал щедро милостыню, если на него смотрели, жертвовал на погорельцев, если имена жертвователей печатались в газетах, и отличался необыкновенною вежливостью в сношениях с людьми лучшего общества. Жена его сформировалась почти по образу пана Мартына: была чересчур любезна с представителями высшего круга, но относительно слишком смелых демократов принимала вид гордый, неприступный, а подчас и смешной.
Водя знакомство с немногими, семейство Скальских скучало, таким образом, а вследствие этого любило всевозможные сплетни, знало не только то, что делалось во всех улицах, но иногда и то, чего делаться не могло, и насмешливо выражалось о горожанах, с которыми ежедневно должно было сталкиваться.
Из всего семейства несчастнее всех была панна Идалия, существо высшего духа, виртуозка на фортепьяно, певица, обладавшая резким сопрано, девица-литератор и даже поэт, как говорили, артистка в душе, легло уносившаяся в сферы недоступные для толпы и лишенная в этой трущобе, как она сама выражалась, всякой пищи для ума, для удовлетворения эстетических потребностей и т. д. Поэтому она всегда почти была в дурном расположении духа, к величайшему огорчению матери, и делалась вспыльчивою, встречая сопротивление. Один брат Рожер только понимал ее; а что касается родителей, то с ними обходилась она кротко, сострадая их простоте и неотесанности.
В описываемое воскресенье все как-то были дома — пан Рожер часто уезжал к приятелям в деревню — и что страннее всего, согласились все на прогулку и единогласно выбрали Пиаченццу. Семейство отправилось в иерархическом порядке. Впереди шел пан Мартын с зонтиком в руках, скрещенных на спине, подняв голову, спустив несколько очки и надев небрежно шляпу. Рядом с ним следовала пани Скальская в легкой шали, с лорнеткой у пояса, которую никогда не употребляла, и с неизбежной собачкой, старой Финеткою, которая едва тащилась у ног хозяйки, по причине чрезвычайного ожирения.
Сзади путешествовали панна Идалия, с прижмуренными глазами и несколько сердитым выражением на лице, и пан Рожер с сигарой в зубах, в летнем костюме. Это был высокого роста худощавый молодой человек, с огромными английскими бакенбардами и с большим гербовым перстнем на руке, на котором рельефно изображались знаки шляхетского достоинства.
Сперва как-то все молчали: пан Мартын сопел, жена его вздыхала, Финетка едва переводила дух от усталости, панна Идалия была задумчива, а пан Рожер вздыхал, в доказательство скуки.
— А знаете, папа, — сказал последний, взойдя на плотину, — я скажу вам еще раз, что не в состоянии выносить подобной жизни. Если придется дальше оставаться в городе, то я распрощаюсь с вами и уеду куда-нибудь.
— Что с тобою опять? — спросил Скальский, оборачиваясь к сыну.
— Рожер счастливее меня, — вмешалась панна Идалия. — Он по крайней мере свободен и может отправляться, куда угодно, между тем как я прикована здесь, словно гриб, и осуждена на плесень.
— Э, детки, — сказал медленно аптекарь, — вы очень хорошо знаете, что я давно уже думаю о переселении в деревню, но нельзя же этого сделать как-нибудь. Ведь, поторопившись, можно много потерять.
— Надобно подумать и о высших целях, — сказала с живостью панна Идалия, — для этого стоит чем-нибудь пожертвовать. Мы с Рожером сохнем, теряя лучшие годы в этой трущобе, и я согласна с братом, что это невыносимо.
— Бедные дети правы, совершенно правы, — проговорила мать, — я это повторяю тебе почти каждый день, но это все равно, что горохом о стену.
— Да, да, пилите, пилите, — отозвался аптекарь. — Язык без костей. Подумайте, что Рожеру надо очень много, и от Идалии тоже не отделаешься чем-нибудь. Тому подавай гаванских сигар, верховых лошадей, выписывай платье и белье из Парижа, а этой необходимы и кружева, и перчатки, и книги, и ноты, и косметика, и шитье, и шляпки. Стоит потерять часть состояния, и на все это не хватит — ясно как день, — и мы, старики, как бы ни скряжничали, не будем сыты одним воздухом. Хорошо вам болтать.
— Папа упрекает нас за изысканный вкус, но он-то и отличает нас от толпы, — сказала панна Идалия.
— Эх, оставьте меня в покое! Не упрекаю вас ни в чем, готов удовлетворить вашим вкусам, и поэтому-то, собственно, я и оттягиваю, чтоб потом вы меня не укорили.
— Оттягиваю! — повторил сын. — Прекрасное и подходящее выражение, а мы тащимся за этим рыдваном осторожности и напрасно тратим золотые годы. Скажите, пожалуйста, с кем жить здесь? Человек ржавеет поневоле в этом захолустье. Еще я могу порою освежиться, но Идалька явно увядает.
— А что же я говорю? — отозвалась мать. — У меня сердце разрывается, глядя на нее.
— Уж, конечно, в аптеку никто не придет искать ее руки, то есть человек ее достойный, предложение которого она могла бы принять, — заметил Рожер.
— И для чего было давать мне высшее образование, — подхватила хорошенькая девушка, — если все это должно погибнуть даром в этой отвратительной трущобе…
— Напрасно говорить об этом отцу, — прервал Рожер, пуская дым, — напрасно упрашивать его, представлять причины — ничто не поможет. Боюсь, чтоб я не решился на какой-нибудь отчаянный поступок.
— А я положительно заболею чахоткой или с ума сойду, — прибавила панна вполголоса.
Атакованный подобным образом, пан Мартын онемел на минуту, потому что у него не хватало средств для обороны, притом же он чувствовал и сознавал в душе, что был виноват. Не первый уже раз семейство штурмовало его этим способом, и потому он попытался отделаться обычным приемом.
— Подождите, все скоро уладится, говорю, скоро, — ибо не позже как в этом году. Есть у меня непоколебимый контрагент.
— Непоколебимый контрагент! Славно сказано! — подхватил насмешливо Рожер. — И надобно прибавить — вечный. Признайтесь, что питаете тайную надежду на отдачу аптеки в аренду, а не думаете о продаже, и желаете, чтоб это аптекарство постоянно висело над нами, как меч дамоклов. Все это лишь из жадности и скупости.
— И ты будешь еще упрекать меня в скупости! — отозвался сердито аптекарь. — Разве же ты терпишь в чем недостаток? Разве я отказываю тебе даже в прихотях?
— Потому что знаете, что я этого не перенес бы, — отвечал Рожер гордо, — но вы скупы и недальновидны. Неужели же и в деревне не наживают деньги?
— Конечно, только я этого не сумею, ибо целый век провел у ступки, а не в поле.
— Что вы говорите, папа? — воскликнула панна Идалия. — Cela, soulevé le coeur! Можно ли так выражаться — у ступки? Affreux! Ведь не обязаны же вы сами хозяйничать, а можете нанять управителя.
— Да, да, чтоб меня обкрадывали, как обкрадывает Туровских пан Матерт, который скоро сделается богачом, а графы пойдут с сумою, — перебил аптекарь.