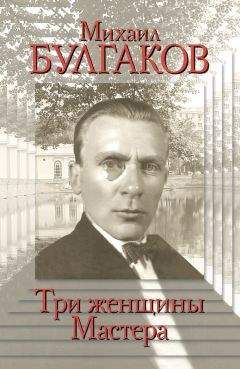— Спасибо тебе!
В ответ он засмеялся с оттенком иронии:
— Э, погоди благодарить, Малыш! Работа предстоит весьма и весьма нелегкая! Мы заседаем ежедневно по шесть-семь часов, а иногда и два раза в день. Необходимо выработать и утвердить взамен отвергнутых новые законы, установить новые нормы поведения, создать новые учреждения!.. Так что собирай все силенки! Надеюсь, не подведешь меня! Я тебе верю, как самому себе, Луи!.. А теперь знаешь что? Спать! Дел завтра — гора, невпроворот…
Взволнованный до слез, счастливый, я покорно улегся, но уснуть долго не мог… Вот благодаря Эжену и я оказался, верное, завтра окажусь в зале Ратуши, где бьется горячее сердце Коммуны!.. И вот тут-то вспомнил я о полузабытых дневниках…
Да, как бы ни уставал, с завтрашнего дня я обязан записывать все значительное, происходящее в Париже, ведь мы стоим на пороге нового, небывалого века, и каждое свидетельство этих дней может оказаться драгоценным. Рядом со мной живут и борются такие замечательные люди, как Эжен, Шарль Делеклюз, Теофиль Ферре, Рауль Риго, Гюстав Флуранс, Лео Франкель, Жюль Валлес, Луиза Мишель…
Я проклинал свою леность! Устав за день у переплетного станка, вечером я уже не в силах был заставить себя сесть за тетради дневника. Тянуло пойти в ближайший клуб — большинство церквей и школ по вечерам превращаются в рабочие клубы, — хотелось послушать страстные речи, о которых недавно невозможно было и мечтать… Я виноват в том, что более подробно не описал в дневниках осады Парижа пруссаками, которая началась 19 сентября; не написал о том, как Жюль Фавр, член Временного правительства, возникшего после крушения Империи, ездил с унизительнейшим поклоном в ставку бундесканцлера Бисмарка, умолять о перемирии, как прусские вояки 1 марта заняли район Елисейских полей на западе Парижа и как правительство Тьера согласилось уплатить контрибуцию в пять миллиардов франков, чем и закончило позорнейшую войну…
Не описал я должным образом и стихийных народных восстаний против этих подлецов правителей. Решительное наступление парижского народа все приближалось, о чем ярко свидетельствовали восстания в октябре семидесятого и в январе нынешнего, когда народ захватил Ратушу. Правительство перенесло свои заседания в Лувр, где по соседству с Тюильри оно чувствовало себя в большей безопасности. Не упомянул я и об угрожающем предсказании Бисмарка Жюлю Фавру: „Если Париж не будет взят в течение нескольких дней, правительство ваше будет свергнуто чернью!“ А они, наши правители, этого страшились больше всего. Мой Эжен принимал участие в обоих восстаниях, его имя стало известно всему Парижу. Да, тогда мы нерушимо верили в близкое провозглашение свободы, а во главе народа стоял „вечный инсургент“ неистовый Огюст Бланки. Именно он писал в октябре в одной из афиш:
„Временное правительство низложено, перемирие с пруссаками отвергнуто, поголовное вооружение декретировано. Выборы в Коммуну состоятся в течение 48 часов“. Увы, тогда они не состоялись!
Да, о многом я не успел, не смог записать! Всеобщее вооружение трудового Парижа было необходимо для победы над прусскими армиями, по наше гнусное правительство боялось этого как огня и шло па поводу требований Бисмарка, соглашавшегося оставить оружие шестидесяти старым, то есть буржуазным, батальонам и настаивавшего на более жестокой блокаде города, чтобы вынудить национальных гвардейцев из народа сдать свое оружие в обмен на хлеб для их семей. Какое изуверство!
Остались за гранью моей своеобразной летописи будни Центрального комитета Национальной гвардии, который до провозглашения Коммуны, то есть до 28 марта, стал полновластным и единственным хозяином Парижа; незабываемый праздник 18 марта, день победы трудового люда. Национальные гвардейцы из буржуазных кварталов почти все бежали в Версаль. Необходимо заметить, что, формируя батальоны, правительство Трошю ограничивалось буржуазными округами Парижа, не решаясь выдавать оружие рабочим и студентам. Поэтому-то за ружье, за мундир и за штаны с красными лампасами и за кепи обязывали платить наличными, а у большинства рабочих, конечно, не было этих наличных. И вооружались только богатые. Вот тогда-то народ и прозвал правительство национальной обороны, как они сами пышно величали себя, „правительством национальной измены“. Да, они боялись вооружить народ, предпочитая отдать Париж прусским завоевателям, народа они боялись больше, чем иноземного вторжения. А Центральный комитет гвардии вооружал рабочих бесплатно. Армия, как таковая, и полиция перестали существовать. Их сменил вооруженный народ. Мой Эжен стал членом ЦК Национальной гвардии, и его единогласно избрали командиром 193-го батальона. В отличие от прежней регулярной армии, где офицеры избивали рядовых солдат, как последних собак, в Национальной гвардии властвует закон о смещении в любое время провинившегося, не оправдавшего доверия командира… Батальоны сведены в каждом из двадцати округов Парижа в легионы, но командир легиона тоже может быть в любое время смещен гвардейцами! Народовластие! Вот это мне и нужно как можно подробнее описать в дневнике. И о дне выборов в Коммуну, ярчайшем на моей памяти празднике, где Эжена на площади Ратуши опоясали красным шарфом с золотыми кистями…
Это я пишу рано утром на следующий день, пока Эжен тоже склонился над какими-то бумагами.
…Вот и снова вечер, вернее, ночь. Прошел первый день моей работы в стенографическом бюро Тюилье… Да, Эжен прав, работа очень напряженная, сетдня было два заседания Совета Коммуны. Эжена все еще нет, у него пропасть дел. А я зажег свечу и разворачиваю страницы своего дневника.
Но расскажу о нынешнем дне по порядку…
Утром, после ночного разговора с братом, я вдруг увидел на своем станке три переплетенные томика: два — Бальзака и один — Жорж Санд. И вспомнил, что именно сегодня обещал обязательно вернуть эти книги мадам Деньер, это она передала мне свой заказ… Я сказал об этом Эжену с некоторым замешательством, но, па мое счастье, он не рассердился.
— Ну, конечно, Малыш, следует отнести, нельзя ее подводить. Тем более что первое заседание у нас сегодня в два часа пополудни… Кстати, я пойду вместе с тобой, мне тоже нужно в Латинский квартал… Вчера приходили из тамошних школ, жаловались: попы не желают оставлять детей без своего попечения… Я догадываюсь, кто заваривает кашу. Есть там такой яростный апостол, кюре Бушье, с которым в дни Империи мы не раз изрядно спорили. Идем, может, и тебе будет полезно посмотреть, как святые отцы стараются удержать ускользающую от них власть…
И мы вместе с Эженом отправились на левый берег. Несмотря на продолжающуюся прусско-версальскую осаду, Париж жил деловой, напряженной жизнью. Предприятия, брошенные бежавшими в Версаль фабрикантами и хозяевами мастерских, начали работать под кооперативным руководством самих рабочих. У хлебных и продуктовых лавок толпились женщины.
Я гордо шагал рядом с Эженом: на нем красовался шарф Коммуны! Школа, куда мы направлялись, была неподалеку от дома мадам Деньер. Надо сказать, что при „правительстве национальной измены“ школы прекратили работу, но декретом Коммуны объявлено всеобщее обязательное и бесплатное обучение в низших школах. Когда мы подошли к одной из них, из глубины здания доносился шум спорящих голосов.
— Ну вот, Малыш, — покосился на меня Эжен. — На ловца как будто и зверь бежит…
Да, это действительно оказался кюре Бушье, пастырь одного из приходов Латинского квартала. В дорогой, хотя и не особенно новой, сиреневой сутане, с неизменной тростью, точно с апостольским посохом в руке, он стоял посреди школьного зала и проповедническим басом отчитывал перепуганную насмерть старушку, начальницу школы…
Они не сразу заметили нас, и Эжен придержал меня па пороге, чтобы послушать спор.
— Вы смеете подчиняться безбожным велениям Коммуны и запрещаете священникам общение с порученными вашему попечению детьми! — громогласно возглашал Бушье, красный от гнева, стуча тростью об пол. — Да вы понимаете, неразумная женщина, что сие кощунственно, безнравственно и, наконец, подло! Оставить несчастных малышек без слова божия! Да что же вы, скудоумная грешница, станете отвечать перед престолом всевышнего, когда он призовет вас на праведный и неизбежный для всякого смертного суд?!
— Но, ваше преподобие, — заикаясь от страха, пыталась ответить старушка с седыми буклями, в черном наглухо застегнутом платье. — Комиссар Коммуны…
— И вы считаете законом распоряжения этой безбожной шайки?! — вскричал Бушье и грохнул тростью об пол так, что задребезжали стекла.
Из дверец классов выглядывали испуганные лица девочек.
Тут Эжен и посчитал нужным вмешаться. Он решительно прошел в глубину зала и тронул Бушье за плечо. Тот стремительно обернулся, и его и без того красное лицо стало багровым.