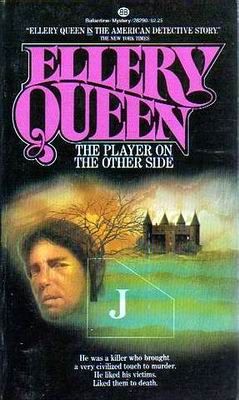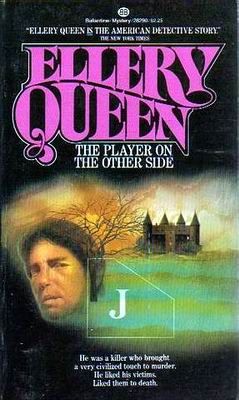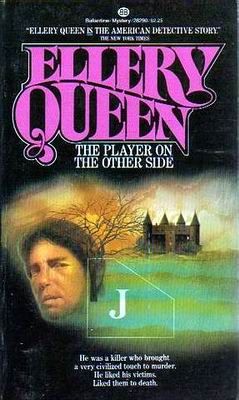Содрогнулся Теймураз — отрубленная голова была первой жертвой, принесенной на алтарь воссоединения Картли и Кахети. Содрогнулся, но молча принял ее, помирился с Зурабом и сделал его амирспасаларом [10] в походе против горцев, разорявших мирные села, — убивать, мол, он умеет, так пусть проявит себя, истребляет врагов, с тыла подтачивающих жизненные силы Картли и Кахети.
И снова овладело шахом бешенство. Из Исфагана дошли слухи, будто шах в убийстве Свимона Теймураза винит, — дескать, он натравил зятя на картлийского царя. Предупреждённый Зурабом шах проявил завидную мудрость: Зураба оставил в тени, будто он ни при чем, а Теймураза взял на прицел. Видя, что шах его не выдал; Зураб осмелел и стал хозяйничать в картлийских владениях, открыто главенствовать на правах первого визиря.
Зашевелились князья, склонили царицу Хорешан на свою сторону — Зураб-де твоего брата, Луарсаба, предал мужу твоему в угоду, а мужа запросто убьет в поисках милости разгневанного шаха. Иначе, мол, не миновать ему гнева шаха за то, что посмел поднять руку на его питомца, на Свимона. И сделал это Зураб, говорили тавады [11], чтобы обвести вокруг пальца Теймураза. И все это свершил именно тогда, когда шах ожидал стычки с турецким султаном и ему было не до Кахети. Но как только Зураб почувствует, что шах с султаном сговорились, он, мол, сразу постарается заручиться расположением шаха и угодить ему немедленным наказанием непокорного.
И еще сказали, для передачи царю, что в ночь убийства Свимона Зураб послал к шаху гонца с вестью: не гневайся-де, владыка мира, Свимона я убил за то, что он непочтительно отозвался о тебе в доме Амилахори, рассказывая за столом, будто потрясенная смертью брата Луарсаба Лела дала тебе, шахиншаху, пощечину.
Да, Эристави знал, что делал. Умел угождать и нашим и вашим…
Когда все это передали Теймуразу, он еще раз убедился в двуличии Зураба, но ничего не сказал, даже с супругой не поделился своими невеселыми, затаенными в глубине души мыслями. А история с оплеухой действительно вышла из стен шахского дворца — грузинки, обитательницы шахского гарема, через надежных евнухов в ту же ночь передали новость. Не забыли и подробностей: шах сначала застыл на месте от неожиданности, а затем повернулся и вышел. Однако после этого любовь и страсть к Леле не только не исчезла, но удесятерилась, весь, мол, отдался страстным утехам, а потом, значительно позже, вдруг совершенно охладел, велел убрать женщину с глаз долой, и в конце концов…
И много чего другого доносили Теймуразу… Однако он притворялся глухим, а к шаху отправил гонца со следующим предложением: в Картли набирают силу султанские холуи, послов от султана принимают. Если позволишь, я отобью у всех охоту заигрывать с твоим недругом, присоединю к себе Картли и поставлю на службу тебе.
Шах изобразил на лице одобрение, когда услышал заверения в преданности строптивого Теймураза, и в знак благосклонности, дававшей надежду на присоединение Картли, поставил кахетинскому царю тяжелое условие.
Именно это условие и сообщил царю вчера Давид Джандиери, которого он сам послал к шаху, ибо в кахетинском мятеже Давид участвовал тайно и в глазах шаха не был опорочен.
Именно это условие потрясло Теймураза, разбудило в его памяти недавние события, кошмаром давившие на разум и душу…
Рассвет входил в свои права.
Теймураз вышел на балкон, протер щемящие от бессонницы глаза, всей грудью вдыхая живительную утреннюю прохладу…
Солнце уже выплыло и нежно ласкало лучами Алазанскую долину, которая мягко сияла и переливалась, словно драгоценная свадебная парча.
Прекрасная, хоть и не ухоженная заботливой рукой землепашца, кахетинская земля благоухала. В воздухе разлит был запах горевшей в тонэ [12] сухой лозы, терпкий дух свежескошенного, собранного в небольшие копны сена, густой аромат сухих листьев ореха и инжира.
Теймураз ощутил чуть заметное мгновенное облегчение, но мысли снова бурным водоворотом закружились в голове, второпях перескакивая с одного на другое и не удерживаясь долго. Перед утомленным взором снова вставали отуманенные болью картины прошлого.
Аббас, палач Востока, начинал свой путь к величию с истребления христианских царств, прежде всего Грузии и Армении, хотя не щадил он и единоверцев, желая внушить подданным своим не столько любовь под страхом смерти, сколько безоговорочное и полное повиновение. Ослепленный собственным могуществом, он преднамеренно, с расчетом путал любовь с покорностью и ошибался, как и многие из восточных правителей, глубоко заблуждался в упрямстве своем, ибо страх рождает не любовь, а рабское повиновение и тайную ненависть. Тайная же ненависть, да еще при полной покорности, намного опаснее, страшнее, чем ненависть открытая, а то и поощряемая, которую легко обнаружить, а потому и обезвредить.
…Именно с целью защиты христиан от восточных сатрапов Теймураз, следуя завету предков и примеру своего деда Александра, обратился за помощью к русскому царю, хотя ощутимых результатов еще не дождался, ибо московский царь так же, как и папа римский, направил в Грузию для укрепления христианской веры священнослужителей, изволивших заметить недостатки грузинских церковников в деле богослужения и усердным красноречием призывавших к их исправлению. Теймураз с католикосом и без них знали все, но сегодня не это было для них главным. Мирная жизнь и покой сами по себе принесли бы и возвышение церкви, и возрождение просвещения. А заниматься сейчас, когда страна была разорена, упорядочением церковных ритуалов значило убить в народе благоговение перед церковью и уронить достоинство самого царя, что не принесло бы никакой пользы. Потому-то католикос не утерпел и довольно дерзко перебил почтенного священнослужителя: мы-де верны православию еще со времен величия Византии, а в пятом веке приобрели автокефалию на вечные времена… Хорошо еще, что Теймураз вовремя дернул первосвященника за полу, иначе тот мог бы больше сказать, отводя душу, распаленную бедствиями страны. Царь подавил душившее его недовольство: последней жизненной надеждой была единоверная Русь, и с этой надеждой всем грузинам следовало обращаться бережно, а католикосу тем паче, ибо несбывшаяся надежда все же лучше утраченной надежды. Человек же, лишенный надежды, — жалок, а народ — мертв.
Нет, не упорядочение христианского богослужения было первейшей заботой Теймураза. Главнейшей и первейшей заботой еще полного сил и энергии царя предвиделась воссоединение Картли и Кахети. В дальнейшем же он мечтал — сокровенно, в глубине души — о создании единой Грузии путем объединения разрозненных царств и княжеств. Свои мысли он держал в глубокой тайне, ибо многие до него пожертвовали этой мечте всем, вплоть до собственной жизни, как случилось и с картлийским царем Луарсабом, который с этой надеждой и явился к шаху: может, бог даст, шах вспомнит, что он брат его любимой жены, и пожалует ему покинутый Теймуразом кахетинский престол… Однако Луарсаб забыл, что и Теймураз приходился шаху шурином, и, хотя сестра Луарсаба считалась первой и любимой женой Аббаса, она все-таки была намного старше другой его жены — Елены, сестры Теймураза. И то не учел он, что восточные владыки, стремясь омолаживать гарем, избавлялись от постаревших жен. Это тоже упустил из виду картлийский царь.
Теймураз снова вспомнил сейчас те события, о которых ему тогда доносили…
…Возвращавшийся из Картли шах Аббас вез с собой картлийского царя Луарсаба и оказывал ему поистине царские почести в пути на глазах его свиты и своего войска, но стоило пересечь границу Персии, как шах вообще перестал разговаривать с картлийским царем и к столу своему его больше не звал. Взятый под стражу сразу же после прибытия в Исфаганский[13] дворец, Луарсаб нижайше передал шаху разрешить ему повидать сестру. На просьбу свою получил цинично-ханжеский ответ: христианин не может-де войти в гарем, пусть, мол, Луарсаб сменит веру свою и тогда увидит сестру… Отказавшийся принять мусульманство Луарсаб был заключён в темницу и через некоторое время умерщвлен во время сна.
К гибели Луарсаба некоторые князья и придворные тоже приложили руку, постарались — кто словом, кто делом: слали в Исфаган доносы без промедления. С незапамятных времен лучшие сыны народа, самозабвенно преданные отчизне, становились жертвой навета, ибо зависть и злоба, возведенные в жизненный закон, отличали если не всех, то большинство князей. Именно зависть и злоба знати приносила народу бедствия.
Народ обессилел, оскудел, все меньше колыбелей — аквани — качалось у домашних очагов, да и некому было ладить их, а шибаки [14] и вовсе исчезли — до них ли было людям? Земля зачастую оставалась невспаханной, скот издыхал или был угнан, редкостью стали соха и пахарь, хлеб родился скудно, без песен и вдохновения землепашца, виноградники полегли, винные кувшины — квеври — покрылись плесенью, не возводились дома — погасли известковые печи, вывелись плотники, и не только нарядный дедабодзи [15], но и простую балку некому было обстругать в кахетинских селах.