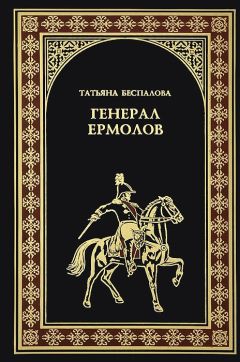Фёдор не стал смотреть, как она спускается с крыши мечети, искусно пользуясь выступами и впадинами неровной кладки. Разведчик побежал в заросли к Соколику, за арканом.
Она не успела коснуться земли, когда петля аркана сжала её шею, путаясь с рыжими кольцами косы. Женщина вскрикнула. Фёдор вязал её умело. Кисти рук плотно примотал к телу за спиной, ноги согнул в коленях, щиколотки привязал к кистям. Пленница яростно сопротивлялась. Матерь Божия, а сильная-то какая! Словно не женщину поймал, а волчью самку. Пару раз ей всё же удалось его укусить. Наконец, тяжело дыша, Фёдор впервые посмотрел в её лицо.
— Не смотри на меня, христианин. Иначе вытекут твои бесстыжие глаза, — прошипела она.
Синий взгляд хлестнул его словно плеть. Фёдор снова едва не потерял сознание.
— Зачем тебе боевое знамя, тварь?
— Пойду к Ярмулу и обменяю его на жизнь моих братьев.
— Дура!
Он отшвырнул её прочь, в тень стены. Она извивалась и билась там, плевалась и шипела. Ругалась на непонятном наречии, пока Фёдор изучал её вооружение. Лук, колчан со стрелами, праща, короткая пика. Древко пики покрывали чудные, выжженные по дереву узоры и бурые пятна запёкшейся крови. Наконечники стрел и пики вырезаны из камня.
— Адские исчадия... — шептал Фёдор. — Бесовское семя...
Фёдор попытался через колено переломить древко пики — тщетно. Тогда он взялся за лук.
— Погоди, послушай... меня зовут Аймани, я воин из рода Акка. С этим оружием охотились мои прадеды. Оно зачаровано и не знает промаха.
Фёдор глянул на пленницу. Она не билась, не шипела и плеваться перестала. Смотрела печально, смертная тоска исказила черты её тонкого лица.
— Что ты мелешь, дочь нехристя? Держи при себе свои колдовские тайны...
— Я собью ваше знамя одной стрелой, если ты позволишь мне... только не ломай лук. И стрелы оставь себе, а меня убей... Я пряталась на минарете, когда ты пришёл в мечеть. Я могла бы убить тебя, но не убила...
— Почему?
— Не смогла!
— Почему?!
Она уткнула лицо в окровавленную пыль у подножия мечети. Рыдания сотрясали её тело.
— Я должна умереть, — едва расслышал Фёдор.
* * *Он похоронил Ванюшу под дубом, завалил могильный холмик камнями. Не спуская глаз с пленницы, прочитал заупокойную молитву. Аймани сидела, прижимаясь спиной к шершавой коре дубка, обнимая дерево связанными руками.
Штандарт восьмого егерского полка Фёдор спрятал в седельную сумку. Вооружение Аймани приторочил к седлу.
— Почему ты отпускаешь меня, казак? — просто спросила она.
— Не научился баб убивать, — устало ответил Фёдор.
— Я не ваша баба. Я — воин, — прошипела Аймани. — И убью тебя как врага, если придётся.
— Убей. Всё равно не умею... А баб я не боюсь... Вот не боюсь всё равно! Будь ты хоть воин, хоть нехристь, а всё одно — баба.
Сплюнув с досады, Фёдор вскочил на Соколика и дал ему шпоры. Они неслись по темнеющему лесу навстречу своим. Фёдор не видел перед собой дороги, доверив выбор пути Соколику. Через пелену горячих слёз, через мучительную боль, терзающую сердце он видел лишь синеву глаз и кольца рыжей косы проклятой Аймани.
* * *Через неделю войско достигло реки Сунджа и встало на ней лагерем.
По пути миновали злополучный Кули-Юрт. Отдали последний долг погибшим товарищам. Потом двое суток чистились и мылись, пытаясь избавиться от привязчивого запаха тления. Окуривали скарб, всерьёз опасаясь чумы.
* * *Догорающие уголья бросали яркие отсветы на лица казаков.
— Ну что, парень, отошёл хоть немного? — спросил Фёдора черноглазый и черноусый Петька-Плывунец со станицы Шелковской.
— Да молчить он всё, ни слова не молвит. Всё по Ванюхе горюить, — вздохнул десятник Захарий-Слива. — Всё в чащу убегаить, видать — муторно ему среди людей. Так ли, Федя?
— Тишины хочу, просто тишины, — вздохнул Фёдор. — Я к Мадатову буду проситься. Только звук битвы мил моему уху. Не хочу слушать, как мужичье и солдатня стонут тут, землю роя.
— Дык, среди русських солдат и поэты случаютца, — усмехнулся Захарий-Слива. — Это те, что из дворян к нам вышли, ссыльные. Ты к ним ступай, Федя. Они коли и стонут, то поэтицески, прямо как ты...
А в русском лагере, который теперь именовался Грозной крепостью, тишины не было слышно даже по ночам. Дозорные день и ночь жгли костры и перекликались, фыркали и переступали кони, сновали вестовые с донесениями.
Пробуждался лагерь на рассвете. Всё воинство разделили на команды. Одни — валили и корчевали лес, другие — строили жилища, третьи — копали рвы и строили фортификационные сооружения. Меньшая часть войска использовалась по прямому назначению: охрана лесорубов от набегов лесных разбойников, разведка.
Татарская конница под командой генерала Валериана Григорьевича Мадатова совершала упредительные рейды по окрестным аулам.
— Терпи, Федя, — не умолкал словоохотливый Слива. — Скоро звуки боя развеють твою печаль. Как прискачеть вестовой, как дасть команду Лексей Петрович...
— Не-е-е, не так всё будё, — возразил Петька-Плывунец. — Приползёт из леса злой мулла и примет тебя, Слива, в мусульмане... гы, гы...
— От ты нехристь! Старших не уважаешь? — буркнул Слива, замахиваясь на обидчика плетью.
Однако в тот вечер товарищам не суждено было поссориться. Из темноты, из лагерной сумятицы вороной карабахский скакун вынес к их костерку бравого всадника в белой черкеске и папахе, в вызолоченной портупее, с орденом Святого Владимира на груди.
— Здорово, братцы, — рявкнул всадник, осаживая чудесного скакуна.
— Здравия желаем, ваше сиятельство, — пророкотал Слива, поднимаясь. Он непослушными пальцами застегнул ворот рубахи, оправился.
— Становись, братва! Перед вами граф Николай Петрович Самойлов.
— Чего?! — подхватился Петька-Плывунец. Ружьё он всегда держал под рукой и первым схватил его. Шашка же никак не давалась в руки, спряталась, стерва, где-то возле костра. Вот начальство прискакало, а рапортовать честь по чести нет никакой возможности.
— Чего-чего, — передразнил кто-то. — Генеральский адъютант энто. Алексея Петровича, то ись.
— Рад, братцы, что помните меня! — граф Самойлов был преувеличенно бодр. Он широко улыбался, не заботясь о том, что в темноте казаки не смогли б разглядеть его лица. Лишь уголья бросали алые отсветы на золото галунов и аксельбантов его щегольской белой черкески.
— Как же забыть, когда все золотом блещете, ваше сиятельство, — отвечал десятник Захарий.
— Который из вас Фёдор Туроверов?
— От он. Сам не свой сидить. Даже ваше сиятельство не заметил.
Фёдор поднялся, оправил портупею.
— Фёдор Туроверов, разведчик первого эскадрона. — Фёдор старался рапортовать бодро, но язык плохо слушался его.
— Ты не ранен, братец?
— Цел я, ваше сиятельство.
— Тогда, вот — получи пропуск. Алексей Петрович наслышан о твоём геройском поступке — спасении штандарта восьмого егерского. Зовёт в свой шатёр.
Самойлов протянул Фёдору сложенный вдвое листок плотной бумаги.
— Приходи завтра, — прокричал адъютант, пуская скакуна в галоп. — И не ранее восьми часов пополудни!
* * *Землянку командующего армией со всех сторон окружали бивуачные посты. Фёдор брёл между ними по направлению, ведя Соколика в поводу. Вокруг вершилась вечерняя лагерная жизнь: солдатики чинили у костров нехитрую свою аммуницию, варили еду, обихаживали лошадей.
— Ты к кому, казак? — спросил Фёдора пропылённый сержант. Остриё штыка коснулось ремня портупеи на груди казака.
Фёдор протянул сложенный вдвое листок. Сержант долго вертел записку, поворачивая её так и эдак, шевелил губами.
«Не тронь его. Ермолов» — гласила надпись на ещё не успевшем истрепаться пропуске.
— Проходи, казак... — вздохнул усталый воин.
Казак тронул Соколика. Прямо перед ним, подсвеченный колеблющимися огнями костров темнел шатёр.
— Не засни, служивый, — весело сказал Фёдор, садясь в седло. — Лезгины кругом.
* * *Перед входом в генеральскую землянку Фёдор лицом к лицу столкнулся с бравым воякой в черкеске и папахе, с шашкой на ремённой портупее. Огни бивуачных костров блеснули на офицерских аксельбантах.
— Кто таков?
— Разведчик Гребенского казачьего полка Фёдор Туроверов явился по вызову его высокопревосходительства...
— Проходи, — коротко ответил офицер, откидывая дощатую дверь.
Сумрак и тишина заполняли пространство комнаты. Столик красного дерева, тот самый, что Фёдор приметил в повозке Кирилла Максимовича, стоял под высоким окошком. Огонёк лучины порхал над узким горлом бронзового кувшина, освещая кипы бумаг и письменный прибор. Двое мужчин склонились над столом. Первый — огромного роста и богатырского сложения, в цвете лет, с копной седых волос над загорелым лбом. Огромные усы и бакенбарды придавали его лицу львиное выражение. Весь он был огромен: и тело, и каждая черта лица, и звук его голоса даже в шёпоте, переливающийся громовыми раскатами. Ботфорты, офицерские штаны с лампасами, свободного кроя солдатская рубаха не могли скрыть неукротимой мощи и энергии его тела. Тёмно-серые глаза его даже в полумраке шатра источали сияние незаурядного ума, несокрушимой воли, жизнелюбия и веры.