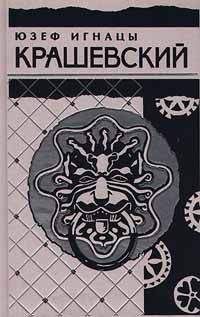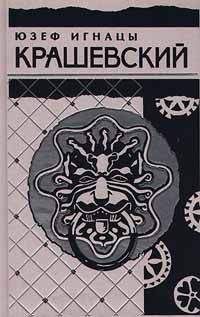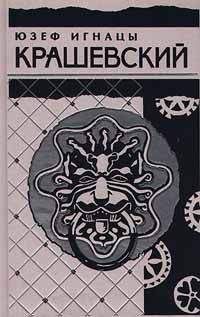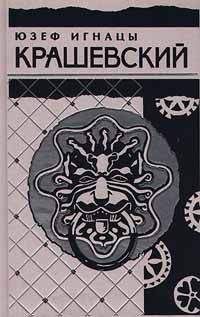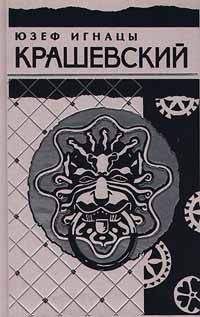Буривой пылал непреклонной жаждою отпора; когда, однако, он встретился лицом к лицу с противником, то заколебался, метнул на него злобный взгляд и… сам не зная как и почему… вдруг отшатнулся, так порывисто и резко осадив коня, что тот присел на задние ноги.
Другие, следуя примеру предводителя, также нарушили порядок строя и образовали посреди себя узкий свободный путь для епископского поезда, точно хотели оцепить и раздавить его между двумя рядами сплоченных, нога к ноге, братьев болеславцев.
Епископ бесстрастно пришпорил лошадь и медленно, не спеша, въехал в кучку всадников, совершенно равнодушный к судьбе своей охраны.
Дружинники хотели было по следам владыки проехать серединою дороги. Однако болеславцы, пропустив епископа, угрожающе сомкнули строй, так что епископская челядь должна была, отстав, своротить с дороги в поле и ускорить шаг, точно спасаясь от преследования.
Молодые болеславцы, заметив расстройство в рядах епископской дружины, стали громко высмеивать их и издеваться. Лица дружинников горели злобой и негодованием. Однако ни один из них не дерзнул первый поднять руку на королевскую дружину. А епископ, медленно проехав сквозь строй расступившихся перед ним болеславцев, даже не оглянулся на то, что творилось за его спиной; настолько он был проникнут глубокою уверенностью, что ничего дурного не случится ни с ним, ни с его челядью.
Именно этой своей уверенностью и непреклонной силой воли он заставил королевскую дружину расступиться. Буривой и его попутчики даже не понимали, как могло все это случиться. Они злились на себя, чувствуя, что уступили неведомой силе, которую испытали на себе, как только встретились с взглядом, исполненным царственною мощью и величием.
Едва миновала встреча, как болеславцы пришли в себя. Они стали оглядываться со смехом и издевками, стараясь отделаться от впечатления случившегося. Некоторые грозились в сторону епископа оружием.
Но тот не видел вызывающего поведения болеславцев, потому что ни разу не оглянулся. Его же спутники догнали своего владыку с громким ропотом негодования, возмущенные и гневные, и вскоре исчезли из глаз болеславцев за ближайшим поворотом.
— Ты зачем свернул? — напустился Доброгост на Буривоя. — Надо было остановиться, заступить ему дорогу, а не жаться в сторону! Пусть бы он попятился от нас, а не мы от него!
— А шут его знает, что случилось с моей лошадью, — ответил Буривой, — чего-то испугалась, метнулась в бок, а я не мог ее сдержать. Впрочем, как ни как, а он все-таки епископ!.. Не для него я это сделал… только…
— Только для чего? — засмеялся Доброгост.
— А чтобы сбить с толку его челядь. Не наше дело расправляться с ними на большой дороге.
— А ты взглянул ему в глаза? — спросил Збилют.
— А как же! Всеконечно!.. Вот еще!.. Бояться чьего-то взгляда! — возмутился Буривой.
— Строгий взгляд! Мороз по коже продирает, — вставил Зе-мя. — Мурашки побежали, когда я, проезжая, встретился с его глазами!
Другие не признавались, стараясь заглушить испытанное впечатление шутками и издевательством. Некоторые все еще оглядывались, но ничего не было видно, кроме столба пыли.
Солнце садилось среди празднично расцвеченных облаков, сиявших багрянцом и золотом, и желто-алой и темно-синей краской. А в зените, точно отороченные кружевами, белели на лазурном своде неба перистые облачка. Птицы стайками резвились в воздухе, торопливо слетаясь на ночлег, так как от востока уже надвигалась ночь.
Немалое время болеславцы ехали в угрюмом молчании.
— Уж признайся, Буривой, — шепнул Земя, — что испугался его так же, как и я! Тут нечему дивиться! Раз он воскресил из мертвых Петрова сына, чтобы тот свидетельствовал на суде, то что ему стоит живого человека сделать мертвецом: захочет, и готово! По мне, лучше с ним не знаться и его не трогать.
— Конечно, — шепотом же ответил старший после долгого раздумья, — когда против меня стрелы да мечи, тогда я знаю, что мне грозит, и с кем имею дело. А как бороться с теми, которые могут и воскресить, и спровадить на тот свет невидимыми силами? Хотелось бы, чтобы и король с ним помирился; да только поздненько теперь об этом думать. Епископ распалился гневом, грозится, что отрешит короля от королевства. А все ксендзы твердят в один голос, что заставят короля, как папа кесаря, целовать ноги у епископа.
— Как там было с кесарем, не знаю, — прибавил, помолчавши, Буривой, — но заставить короля… ой, трудненько будет!
Покачали головами болеславцы, обменялись взглядами и замолчали.
— Да и то, что болтают о кесаре, будто папа поставил ему ногу на затылок, верно сказки, — нерешительно заметил Збилют, — а разносят небылицы по свету церковники, чтобы пугать людей.
— Не сказки! — возразил Буривой. — Не раз слышал я то же самое от короля. Он смеялся над кесарем и говорил: "Я бы лучше отрекся от королевства, чем от чести".
Так рассуждали они в пути, когда вдали, в стороне от большой дороги, показались обширные дворцовые строения, обнесенные частоколом и обсаженные вокруг деревьями.
И деревья, и постройки темной массой выделялись на ясном небе; открытые окна и двери, ярко освещенные изнутри, горели как в огне. На дворе стояли пылавшие смолой бочки и костры, заливавшие заревом пожара широкую улицу строений. Издали казалось, будто пламенеют сами верхушки деревьев, и видно было, как высокими столбами подымаются к небу облака багрового дыма, снизу доверху унизанные искрами.
— Эй, эй! — весело воскликнул Доброгост. — Никто иной, как сам король коротает время в своем сельском подворье!
Все бодро двинулись вперед, покрикивая:
— Король, король наш! Добро пожаловать! Живей, живей! И кучка болеславцев пустилась рысью, погоняя лошадей. Чем ближе, тем сильнее ослепляло их зарево света; все яснее доносились крики, пение и игра на гуслях.
— Без сомнения, король, — повторяли болеславцы.
— Где наш пан, там и веселье, — говорили они друг другу, — в добрый час поспеем к ужину! Христя также, верно, здесь; а кто не рад ее улыбке… ее взгляду…
Весело смеясь и перекликаясь, болеславцы доскакали до ворот, у которых толпилась многочисленная челядь; подальше, рядами, стояли во дворе привязанные к яслям кони… Других челядь водила под уздцы. Сквозь отворенные настежь окна виднелись освещенные факелами комнаты, из которых неслись залихватские напевы и бренчание на гуслях.
Едва успели болеславцы въехать во двор, как со всех сторон в полголоса раздались приветственные возгласы. Челядь сидела за поистине царственною трапезой. Тесным рядом стояли бочки с напитками; тут же лежали ковши и черпаки; высились горы хлеба; белели круги сыра на соломенных плетенках, и отовсюду доносился запах жареного мяса.
У окон и дверей толпилась челядь, разодетые дворовые в богатых доспехах, и ратные люди в цветных кафтанах.
Здесь же, под златотканой попоной, волочившейся по земле, двое конюхов водили любимую королевскую верховую кобылицу, с кличкой Орлица. Около нее заботливо и суетливо хлопотали слуги; одни подносили ей ломти хлеба, другие предлагали пойло, но она презрительно отворачивалась и от тех, и от других.
Невысокая, серая в яблочках, с лоснящейся шерстью, черными копытами, розовыми, широко раскрытыми ноздрями, большими темными глазами, длинной шелковистой гривой и хвостом, заплетенным в косу с золотистой лентой, королевская любимица, казалось, знала кто такой ее хозяин. Она шла гордо, не позволяя дергать себя за узду, заставляла конюхов замедлять шаг, по временам подымала голову, с громким ржанием, в котором слышались отголоски внутренней тревоги и недовольства.
А в ответ на ее голос стоявшие у яслей жеребцы начинали рваться, ржать, сбиваться в кучу… и вся усадьба наполнялась конской молвой, заглушавшей людские песни и игру.
Орлица в качестве признанной повелительницы табуна имела особый штат прислуги, даже отдельную палатку, в которую могла удалиться на покой, чтобы отдохнуть на ворохе свежей соломы, среди кадок с водою и овсом и вязок с душистым сеном.
Болеславцы, встреченные радостными кликами, соскочили с лошадей, сбросили плащи, застегнули кафтаны, отдали прислуге часть вооружения и, не входя во внутренние помещения, старались сначала разглядеть сквозь окна, что делалось внутри.
В длинной, низкой и не очень широкой комнате, освещенной факелами, горевшими в руках парней, расставленных вдоль стен, стоял длинный стол, покрытый скатертью, расшитой русскими узорами, и заставленный золотой и серебряной посудой. Ковши, жбаны, кубки, миски, все было грубо выковано из серебра и золота и сверкало и блестело в лучах огней. Необычайное, царское обилие посуды изумляло теснившийся у окон люд, с любопытством глядевший на такую потеху. Никто не гнал от окон смердов, потому что король бывал иногда чрезмерно ласков к простолюдинам, а земские мужи и рыцарство даже обижались, что он более заботится о холопах, нежели о тех, которые проливают за него кровь.