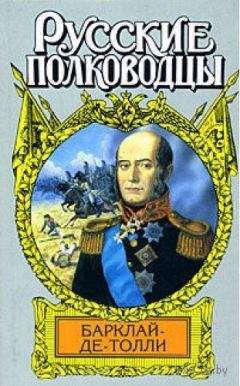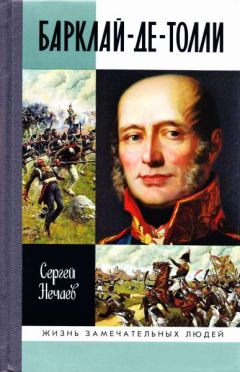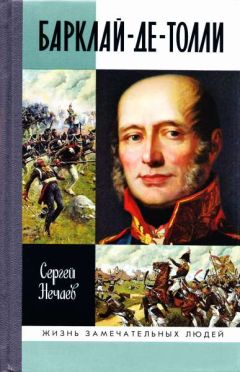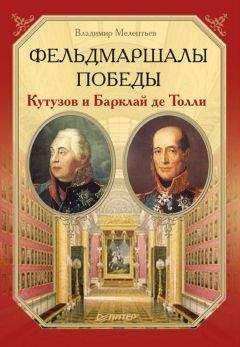…Так как имя Готтард по-немецки означает «Богом данный», впоследствии Михаила Барклая-де-Толли в России стали по отчеству называть Богдановичем.
Почти никто не знал, что в глуши литовских лесов в середине декабря 1761 года родился младенец Михаил Андреас, но десятки, а потом и сотни тысяч людей тремя неделями позже, 5 января 1762 года, узнали, что умерла после долгих мучений российская императрица Елизавета Петровна.
Она была еще жива и то впадала в беспамятство, то ненадолго приходила в себя, когда на дверях церквей и на стенах домов были развешаны сообщения о победе под Кольбергом. Но как только императрица умерла, в тот же самый день ближайший друг Петра Федоровича его генерал-адъютант Андрей Гудович помчался в Берлин к Фридриху II с известием о восшествии на российский престол его прозелита[3] Петра III[4]. В послании новый император сообщил и о своем желании установить вечную дружбу с прусским королем.
А к Бутурлину понеслись фельдъегери с приказами немедленно кончать войну. Однако же сия совершеннейшая в политических делах перемена коснулась лишь тех, кто в оных предприятиях участвовал или имел к ним какое-либо касательство. А так как, кроме военных да чиновных людей, мало кто был той войне сопричастен, то и к замирению с королем почти все остались безучастными, хотя в душе и порадовались: люди перестанут не из-за чего погибать да еще, даст Бог, поборы станут поменьше.
И Барклаю не до войны было и не до политики, ибо собственные его дела шли из рук вон плохо, и более всего следовало ему задуматься о дне сегодняшнем, который, вопреки евангельской мудрости, приходить-то приходил; да вот вместе с ним Господь пищи не приносил…
А меж тем минул волчий месяц декабрь, прошло морозное Крещение, зима надела медвежью шкуру и начала стучать по крышам, дыша студеными ветрами, рассыпая из рукавов иней и сковывая воду в реках на три аршина.
В такое время, когда светало близко к полудню, а темнело вскоре после обеда, шли Готтарду в голову невеселые мысли: не смог он вести свое хозяйство, хотя и надрывался на пашне с утра до вечера. Да и арендатором-то он лишь назывался, а на самом деле был самым заурядным вольным хлебопашцем, ибо не было у него ни одного работника. И оттого еле-еле сводила его семья концы с концами, а улучшения Готтард не предвидел, все более убеждаясь в справедливости пословицы: «От трудов праведных не наживешь палат каменных».
И однажды Готтарда вдруг осенило: «А ведь палаты-то каменные у меня совсем недавно были, правда, не Бог весть какие, но все же каменные — не чета нынешним, деревянным». И тут же вспомнил он другую пословицу: «От добра добра не ищут». И признался себе Готтард, что ушел и из каменных палат, и от добра на поиски лучшей жизни, а нашел бревенчатую избу, клочок земли, изнурительную работу от зари до зари и скудный достаток, не шедший ни в какое сравнение с прежнею жизнью.
И когда признался себе во всем этом, то с горечью сам же себя спросил: «А почему все это случилось и кто во всем том виноват?» И ответил: «Да я сам. Кто же еще?»
* * *
Вспоминая тридцать пять прожитых лет, Готтард делил их на несколько неравных долей: первую, несомненно самую счастливую, когда был он ребенком, заласканным маменькой последышем, самым любимым из трех ее сыновей; вторую, когда стал он отроком и не захотел признавать главенства над собою двух старших братьев, из-за чего возникло между ними взаимное отчуждение; третью, когда определился он в военную службу, столь же несомненно злосчастную; и четвертую, когда встретил он свою судьбу, Маргариту, осветившую его жизнь лучезарною любовью, которая скрашивала многие темные стороны их нелегкого совместного бытия и, несмотря на каждодневные трудности, делала его жизнь радостной, а главное — наполненной высоким смыслом — истинной полезностью.
Отец его, Вильгельм Барклай-де-Толли, был богатым, преуспевающим юристом и негоциантом, сначала муниципальным советником Большой гильдии Риги, а когда Готтард подрос, стал и бургомистром этого процветающего ганзейского[5] города. Поднявшись на вершину власти, отец купил два больших и богатых имения, завещав их старшим сыновьям, один из которых готовился, как и отец, стать юристом, другой — служить в казначействе.
Поскольку Вильгельм Барклай был богат и, подобно местным помещикам, владел усадьбой и землей, да к тому же его часто видели в окружении благородных господ, одетого в кружева и бархат, в длинном белом парике и с золотою цепью на груди, то все в Риге стали считать его не простым богачом-толстосумом, а прирожденным знатным господином, в чьих жилах течет голубая кровь ливонских рыцарей.
Готтард помнил, как однажды необычайно торжественный отец, разряженный и надушенный, словно молодой дворянин из тех, коих именовали петиметрами[6], повел матушку и его с братьями в церковь Святого Петра, где в полдень должны были освятить их родовой герб, который отец сумел поместить на одной из внутренних колонн храма.
В церкви Готтард долго изучал герб рода Барклаев и соседние гербы, с которых чванливо и высокомерно глядели на толпу горожан геральдические львы и орлы остзейских[7] графов и баронов, вздымались мечи и копья, парили сказочные птицы и ангелы. Он внимательно читал гордые девизы благородных фамилий, чьи предки были тевтонскими рыцарями и чьи потомки сегодня стали остзейскими — и рижскими в том числе — нобилями и патрициями. И вдруг он понял, что отец хотя и добился права уравнять род Барклаев с известными во всей Европе фамилиями, но только по праву богатого, однако он не мог сравняться с ними в славе, ибо их лавры были добыты не купеческим золотом, а мечом, кровью и доблестью рыцарей.
И именно тогда решил Готтард стать офицером, чем немало удивил отца, ибо на его памяти в семье Барклаев военных не было, а все, кого он знал, шли по стезе негоции. Военные же если и были, то столь давно, что память о них уже утерялась.
Подумав, отец решил, что младшему сыну можно стать и офицером, ибо военные, именуемые «дворянством шпаги», имели преимущество перед «дворянством пера», то есть священниками. Так враз, совершенно неожиданно, решилась его судьба.
Вскоре Готтарда записали в полк и тут же отправили в домовый отпуск для подготовки к принятию офицерского звания.
Наслушавшись всяких побасенок подвыпивших ветеранов, которые квартировали в древней крепостной казарме, о боях и походах с Карлом XII и Августом Сильным, Готтард возвращался под отчий кров воодушевленным, будто это именно он подобно Августу гнул подковы и подобно Карлу никогда не кланялся пулям.
Занятиям воинской наукой уделял он не много времени, тогда как старшие братья, как муравьи, усердно трудились в своих бюро, вызывая у Готтарда презрение, смешанное с брезгливым состраданием. Может быть, сам того не сознавая, он не хотел ни в чем быть похожим на братьев и потому их рвению противопоставлял сибаритство, их практицизму — демонстративную романтическую неприспособленность к жизни.
Отец, вечно занятый делами, не обращал на сыновей никакого внимания, надеясь на их собственный ум и житейскую хватку. Занимался Готтард кое-как, и ответы его на экзаменах были ниже посредственных, отчего комиссия не смогла дать положительного заключения. И тогда, скорее спасая доброе имя Барклаев, нежели неудачливого сына, бургомистр уговорил председателя комиссии направить Готтарда в кригс-комиссариат, занимавшийся делами по снабжению армии. Интендантское ведомство всегда испытывало недостаток в офицерах, а кандидатура Готтарда Барклая была хороша еще и тем, что его отец — негоциант и бургомистр — мог оказать армии такие услуги в поставках, на какие не был бы способен и сам петербургский генерал-кригс-комиссар. И после недолгих проволочек экзаменаторы собрались еще раз и решили дать ему чин фендрика, соответствовавший чину подпрапорщика, и направить в интендантство. Там-то и началась в 1744 году его военная служба, оказавшаяся, правда, не очень продолжительной.
Рижское интендантство, кригс-комиссариат, осуществляло контроль за финансовыми делами и снабжением войск в Прибалтике всеми видами провианта, огнестрельным и холодным оружием и амуницией, а также за обеспечением гарнизонных аптек и лазаретов и заключением контрактов на поставку всего необходимого. Сколь ни серой, сколь ни рутинной была такая служба, она все же могла представлять интерес для военного чиновника хотя бы тем, что в ней имелся некий созидательный смысл и определенная польза. Однако то, к чему приставили фендрика Барклая, даже и такого значения не имело, ибо на первых порах ему поручили дело самое простое — контроль за порядком на складах военного имущества, или «воинских магазейнах», как назывались они официально. Дело это показалось ему совершенно неинтересным, и, даже и не пытаясь вникнуть в его суть, юноша очень тяготился этой казавшейся ему совершенно бессмысленной деятельностью. В характере его появились раздражительность и внезапная вспыльчивость, подчас переходившие в дерзость. И неизвестно, как долго шла бы его «магазейская служба», если б не приехал он по казенным делам в Ревель. В ту пору состоял там обер-комендантом единственный в русской армии эфиоп, бывший денщик Петра Великого, Абрам Петрович Ганнибал[8].