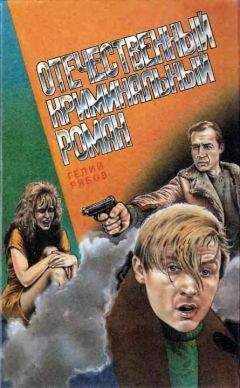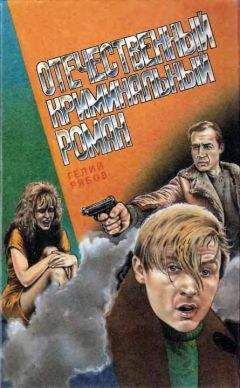вызывала бешеное раздражение — ну какие же это военные с галунами и «погонами» торгового флота? Заметив пристальный взгляд полковника, моряк привстал и вежливо откозырял:
— Не нравится?
— А вы как думали?
— Мы, увы, не думаем, полковник… Надобно уметь подчиняться.
— Для чего же, если не секрет?
— Для построения новой России. Народ во главе угла, полковник! И только он может распоряжаться своей судьбой! Из Петербурга?
— Из Петрограда… — проговорил Дебольцов, не выговаривая «р».
— Под Ульянова работаете? А что… Ульянов, знаете ли, — это нечто. Мощь. Ум. Политик с большой буквы.
— У меня сообщение из Главного штаба. Адмирал примет меня?
— У него обед, но идемте, доложу. — Он пошел первым и даже вежливо открыл Дебольцову дверь.
Вошли, появилась смазливая горничная («мармулетка» — сразу же окрестил ее Дебольцов), приняла фуражки, старший лейтенант снова пошел впереди; когда поднялись на галерею перед балконом — увидели моложавого адмирала, тоже в новой непрезентабельной форме. У адмирала был невероятно большой нос и цепкий взгляд из-под мощных, красиво изогнутых бровей.
Дебольцов представился:
— У меня сообщение чрезвычайной важности.
Колчак кивнул:
— Прошу, господа. — На балкон вышел первым, сразу же предложил сесть — Дебольцову понравилось, что командующий разрешил докладывать в свободной форме; уселись по ранжиру чинов: Колчак первым…
— Ваше превосходительство… — с чувством произнес Дебольцов. Военный или дворянский титул был для него столь же непреложен, как «Отче наш» поутру и перед сном, теперь же, когда «демократы» отменили титулование и все стали просто «господами», независимо от чинов и званий, — этот ритуал сделался почти мистическим. Колчак понял, это было видно по едва заметной улыбке, вдруг мелькнувшей на тонкой верхней губе.
— Ситуация в России обострилась и будет ухудшаться с каждым днем. Дело в нарастающем влиянии большевиков, Ленина. Немецкое золото на развал тыла и фронта, полученное столь бесстыдно и нагло, с отвержением всех принципов — Божеских и человеческих, — позволит этим «друзьям народа» повернуть штыки армии против собственного народа и начать Гражданскую войну.
— В самом деле? — без явного удивления произнес Колчак. — Но зачем же? Они и сами будут убиты в этом случае?
— Их цель — всемирное пролетарское братство, ваше превосходительство, трупы — сколько бы их ни было — дело для них незаметное.
— Я не верю, полковник. Это же вы о народе! Как же так? Я Соловьева читал, он пишет о Божественном предназначении русского народа! Нет, вы ошибаетесь… — Лицо старшего лейтенанта пошло пятнами.
— Я не ошибаюсь, а вы — слепец! В нашу жизнь вторглась кровавая сволочь! Если мы не остановим ее — всему конец! Они не верят в Бога, рассуждения о богоносности — чушь для них. Да и право, господа, о чем мы говорим… Государь — арестован! Убийства и грабежи повсеместны! Охрана в Царском расстреливает ланей и косуль! Зверье!
— Я отправил миноносец в Батум, к великому князю Николаю Николаевичу… — Колчак встал, прошелся. — Я был убежден: боевой опыт князя, его безупречная честность — залог успеха! Я предложил коалицию — вооруженную, естественно… Я верил: удар, одновременный удар армии и флота сметет и Ленина, и Керенского! — Кулак громыхнул по столу, адмирал с трудом скрывал раздражение.
— И… что же великий князь? — тихо спросил Дебольцов. Ответ он уже знал…
— Ничего. — Колчак сел, взглянул остро. — А… Корнилов? Он-то что? А атаман Краснов? Впрочем, Петр Николаевич, говорят, недурно сочиняет, пишет, то есть…
— Что касается Лавра Георгиевича, то, с его точки зрения, монархия себя полностью изжила, — вздохнул Дебольцов.
— Странно… Пожалован Георгием, чином — он ведь из совсем простых? Разве не это свидетельство самой высшей «демократии», полковник. Очень странно…
Откуда-то донесся резкий зуммер телефона, Колчак встал:
— Благоволите обождать, господа, я сейчас… — Он ушел.
Флаг-офицер долго молчал, потом спросил, медленно подбирая слова:
— Монархия… исчезла… Ленин — мразь, Керенский — паркетный шаркун. А… Россия? Мы-то — как? Это же неправда!
— Я вам вот что скажу: «Не прикасайтеся помазанному моему!» А коли прикоснулись — ответ держать надобно! И будем держать… Я должен идти, честь имею.
— Я провожу.
Спустились по лестнице, «мармулетка» подала фуражки и сделала каждому книксен — воспитанная была девица, тут же появился адмирал, на нем была черная прежняя форма: сюртук с золотыми орлеными погонами, Георгиевская сабля «За храбрость», ордена. Бледное, почти белое лицо и помертвевшие глаза выдавали событие чрезвычайное:
— В экипаже идет митинг, господа. Большевики окончательно взорвали флот. Двадцать тысяч на плацу. Требуют красных знамен и моей немедленной отставки. Едем.
Вышел первым, офицеры шли позади, «линкольн» стоял на своем месте. Усатый офицер-шофер нажал стартер, автомобиль взревел, тронулись.
Ехали медленно, пробираясь сквозь десятки, а может, и сотни людей, спешивших на митинг. Шли с красными флагами и доморощенными транспарантами с вечными призывами: «Долой войну!», «Долой министров-капиталистов!», «Да здравствует республика Советов!».
— Здесь тоже есть «Совет»? — поинтересовался Дебольцов, и шофер сразу же зашевелил тараканьими усами:
— А где этой дряни теперь нет, полковник? Укажи мне такую обитель…
Машина медленно поднималась в гору, надсадно ревел мотор, холмы были еще зелеными, и вдруг внизу, совсем близко, руку протяни — ударила по глазам невиданная синева, первый раз в жизни видел Дебольцов такое.
— Море… — таинственно произнес шофер, заметив немой восторг Дебольцова. — Кто один раз увидел — не забудет и вернется, это закон!
Но вот послышалось стройное пение, то была «Русская марсельеза», пели истово, медленно, словно религиозный гимн, — без прыгучего французского задора. Песня отлетала от холмов, словно мячик, слова смешивались, и вместо: «Мы пойдем в ряды страждущих братий» — слышалось: «Мы пойдем… мы злодеям… мы братья…»
Выехали к плацу, там гудела и мельтешила огромная толпа — матросы, офицеры, рабочие, мужичье и дамочки с зонтиками — те держались в отдалении, обнаруживая лишь простое любопытство.
А песня давила, ввинчивалась в