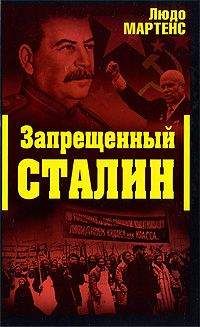— Ровно столько, сколько вам потребуется, — любезно ответил император. — На меня не обращайте внимания. Здесь для меня времени не существует.
Слова императора успокоили Есениуса. Он мог целиком отдаться окружающей его красоте.
О, как благотворно она действует на душу! Человек обо всем забывает. И радость, вызванная прекрасным, овладевает всем его существом.
Так подействовали прекрасные творения, собранные в этом зале, и на Есениуса. Прежде всего он обошел весь зал, чтобы сперва бегло ознакомиться с выставленным здесь, а уж потом стал подробнейшим образом рассматривать каждую картину, каждую скульптуру.
Здесь не было ни одного произведения, сделанного рукой ремесленника. На каждом лежала печать подлинного творческого горения. Десятки и сотни картин: миниатюрных, средних по величине, и поистине огромных. Целые ряды скульптур античных мастеров и итальянских мастеров эпохи Возрождения. А в соседних комнатах — бесчисленное количество искусно выполненных ювелирных и граверных работ. В конце зала находились столы и витрины со всевозможными драгоценными предметами.
Есениус прежде всего рассматривает картины работы Дюрера. Они висят в конце зала.
Вот «Мадонна с младенцем». На голове у нее небесно-голубой шарф. Какое удивительное очарование овладевает человеком! Детское лицо матери, нежно глядящей на свое обнаженное дитя. Гармоничное сочетание красок, среди которых доминирует небесно-голубой цвет прозрачного шарфа. Вероятно, все это вместе наполняет зрителя сладостной грустью, овеянной невольным воспоминанием о собственной матери.
Посмотрев другую работу Дюрера — огромное полотно «Казнь десяти тысяч христиан во времена персидского царя Сапора», — Есениус еще раз вернулся к мадонне. Ему хотелось избавиться от тяжелого впечатления, какое произвела на него картина, на которой богатая фантазия художника запечатлела все возможные виды казни. Страшное зрелище! Есениус пытается отвлечься от содержания картины и разобраться в ее художественных достоинствах: композиции, колорите, рисунке. Но одно от другого отделить невозможно.
Император отвел глаза от «Илиона» — прекрасной статуи Скопаса, на которую он мог смотреть часами, — и взглянул на Есениуса. Взор его выражал удовлетворение.
— Вам нравится Дюрер?
Есениус вздрогнул. Он совсем позабыл об императоре.
— Очень, ваше величество!
Он не мог кривить душой. Его восторг был искренним. Ему нравились итальянские художники, он всегда считал, что они недосягаемы, что их никому не превзойти, но великого нюрнбержца любил всем сердцем.
— Вы уже видели «Поклонение волхвов» и «Праздник четок»?
«Поклонение волхвов» Есениус видел еще в Виттенберге в храме Всех Святых. А теперь картина здесь. Как это могло случиться?
— Я видел ее впервые еще в Виттенберге.
Император плутовато улыбнулся.
— Она и сейчас там висит, — таинственно ответил он. — Только оригинал здесь.
— А в Виттенберге? — удивленно спросил Есениус.
— Там копия. — Император засмеялся тихим смехом человека, предпочитающего больше смеяться про себя, чем вслух. — Жители Виттенберга народ упрямый, а тамошние монахи совсем твердолобые. Свою картину они не хотели уступить ни за какие деньги. В конце концов удалось договориться с одним условием — мы должны были поручить изготовить копию, которую почти невозможно отличить от оригинала.
Бледные губы Рудольфа снова озарила довольная улыбка. Он радовался этому удачному ходу, как радуется мальчишка после ловкой проделки.
Вершиной творчества Дюрера была его картина «Праздник четок».
— Лучшей картины Дюрера я до сих пор не видел! — воскликнул Есениус, забывая об этикете.
Но такое нарушение этикета не возмутило императора. Искренний восторг посетителей его галереи он ценил выше, чем вежливую похвалу.
— И едва ли увидите, — заметил он самодовольно.
Дюрер был любимым художником Рудольфа, а картину «Праздник четок» он ценил выше всех произведений живописи.
Поэтому-то ему было не жаль заплатить храму Святого Варфоломея в Венеции двадцать две тысячи талеров за эту картину и дать вместо нее точную копию. А чтобы в пути картину не повредили, ее накрутили на деревянный валик, упаковали в непромокаемый кожаный мешок, и всадники в сопровождении вооруженной стражи переправили ее через Альпы в Прагу. Теперь она сверкает среди других уникумов, как солнце среди планет.
После Дюрера следовали Джотто, Фра Анджелико, Леонардо, Рафаэль, Корреджо, Тициан и многие другие.
Никогда еще Есениус не видел такого количества собранных вместе шедевров.
Дойдя до конца зала, он снова возвращается. Но идет не вдоль противоположной стены, а через середину зала, где на подставках стоит ряд картин одинаковой величины.
Как отличны эти картины от тех, которые он только что рассматривал! Там словно собрались на торжественный праздник все святые, окруженные ангелами. Здесь же, наоборот, представлена бурлящая повседневная жизнь человека среди себе подобных и в борьбе с природой. Какая широкая панорама, сколько действующих лиц на каждой картине! И каждый персонаж живет. Люди составляют группы, которые, однако, неразрывно связаны со всем изображенным на картине.
Впечатление, вызванное этими картинами, невозможно сравнить с тем, которое создалось в душе Есениуса, когда он разглядывал творения Дюрера и полотна итальянских мастеров. Сначала он чувствовал себя как в храме. А потом, выйдя из храма, он сразу же попал в суматоху ярмарки или карнавала.
Праздник жизни! Но с какой стихийной силой он изображен!
Кто живописал эти полотна? Есениус еще никогда не встречался с картинами этого мастера. А император, видимо, любит художника, иначе не собрал бы столько его полотен.
— Смею я узнать, ваше величество, имя автора этих картин?
— Они вам нравятся? Своеобразные картины… Но все же прекрасные, не правда ли? Рисовал их голландец Питер Брейгель[28]. Собственно говоря, картины, которые перед вами, нарисовал для нас его сын Ян точно с отцовских оригиналов. Сами оригиналы нам не удалось приобрести.
— Питер Брейгель, — вполголоса повторил Есениус, словно желая навсегда запечатлеть в памяти это имя.
— Вы, вероятно, устали, доктор. Отдохните немного. Подвиньте сюда стул.
Стул стоял под одним из высоких окон. Есениус подвинул его ближе к императору.
— Что вы скажете об этой картине? — спросил император, показывая на одну из картин Брейгеля, против которой он сидел.
Это были «Слепые». Хотя Есениус уже видел картину, он еще раз внимательно на нее посмотрел. Разглядывая ее, он обдумывал свой ответ императору. Картина подавляла трагической безысходностью. Шесть слепых с поднятыми к небу головами и с широко раскрытыми, но погасшими глазами идут друг за другом, опираясь на посохи. Первый, поводырь, сорвался с берега в поток… он напрасно простирает руки, взывая о помощи… Его друг, следовавший за ним, не может ему помочь, потому что он сам уже падает вниз. Та же судьба ждет и остальных четырех, не подозревающих, что впереди поток. «Как мог художник избрать такой трагический сюжет?» — думает Есениус.
— Это невероятно сильное произведение. Оно потрясает, — не спеша говорит Есениус.
— Шпрангер утверждает, что это страшная картина. А вам не кажется, что она отвратительна?
Император смотрит на Есениуса из-под полуопущенных век, желая убедиться, искренне ли отвечает доктор.
— Мне кажется, что выражение «отвратительна» — недостаточно точное определение. Картина очень правдива. Художник дал кусочек настоящей жизни. А если художник рисует правду жизни с такой убеждающей силой, как этот голландский живописец, его произведение нельзя назвать «отвратительным», хотя оно и не соответствует утонченным требованиям к искусству.
— Понимаем, что вы хотите сказать. Не надо искать прекрасное только в высших сферах, в ангелах, святых, даже в языческих божествах, которых так любит рисовать Шпрангер, — оно есть и на этом свете. В повседневной жизни. Всюду вокруг нас. При такой точке зрения мы считаем прекрасным не только ваше анатомирование, которое вы недавно нам показали, но и тот труп, который вы вскрывали. Когда мы смотрели на вскрытие, у нас было то ощущение, какое мы испытываем при взгляде на механизм остановившихся часов. Должен вам сказать, что, глядя на устройство часового механизма, вы испытываете удивление. Даже если они не работают. И даже если механизм разобран, а вы глядите на каждую его деталь в отдельности. Так и при взгляде на человека… на человеческое тело. Испытываете ли вы такое ощущение?
Есениус еще ни разу не слыхал, чтобы император рассуждал так пространно. Как правило, Рудольф был молчалив. Но в галерее, среди своих сокровищ, он словно преображался. В этой особой обстановке он сбрасывал с себя панцирь монаршей неприступности и становился почти робким человеком с душой чуткой к прекрасному и к простым человеческим чувствам. Может быть, поэтому он любил посещать галерею в одиночестве. Вероятно, опасался, что в такие минуты не был достаточно вооружен против всевозможных посягательств советников и просителей, которым в другой раз оказывал успешное сопротивление.