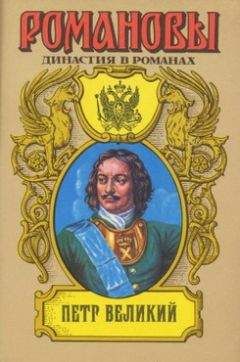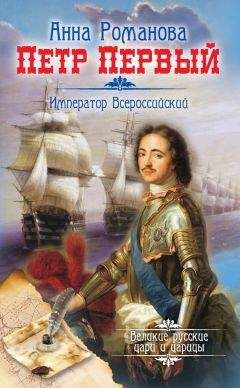— Што за тайность? Сказывай. Я боярину передам. Одно мне дивно: какая тебе забота о боярине? Што он тебе?
— Што?.. Не признал он меня… А я с им не раз и в походы хаживал, и в бой выступал. Доселе люб он мне… И Бога я боюся… Неохота душу лукавому в кабалу отдать, как и тем шестерым товарищам. А дело учиняется адово.
— Говори ж, коли так, да живее. Сметят нас…
— Сметят, сметят… Я живо… На Москве вороги ваши да Нарышкиных мятеж подымают, стрельцов мутят. Списки пошли по рукам. Гляди: один и у меня есть… Вот… ково извести надо, как резня пойдёт. Их сперва было имён тридцать прислано. А стрельцы на сходах ещё с полсотни прибавили. И бояриново имя в первое место постановлено… Чтобы в том злом деле не быть — мы все семеро прочь от Москвы едем подале.
Сразу изменился Алмазов.
Взял список, свернул и поспешно спрятал за обшлаг рукава.
— Ну, спаси тебя Бог, коли ты от сердца… Иди в избу. Я боярину скажу. Може, тебя покличет. А уж награды жди изрядной… Ступай.
И Алмазов кинулся к Матвееву.
Грустно улыбнулся старик, пробежав список, и сейчас же перевёл взгляд на сына, бледного, но красивого юношу семнадцати лет, спавшего тут же на другой скамье крепким сном молодости.
— Што же, боярин? Ужли-таки назад не повернёшь? — спросил негромко Алмазов, не замечая, чтобы весть о гибели встревожила старика.
— Видать, што молод ты ещё, Ерофеич, и меня не знаешь. Помирать-то мне уж давно пора. Неохота было там гнить, в тайге, в бору медвежьем, ни себе, ни людям добра не сделавши… А про бунт той я давно сведал. И все затеи Милославских не зная — знал. Старые мы приятели… Привёл бы Бог до Москвы доехать. Уж там — Божья воля. Либо я тот бунт, все составы их злодейские порушу, либо там и голову сложу за Петрушеньку, за государя мово… Оно и лучче, коли старые очи мои скорее сырая земля покроет. Не увижу горя семьи царской, не увижу земли родной поругание и печаль…
Наутро дальше тронулся Матвеев, торопя всех больше прежнего.
Только у Троицы Сергия сделал привал на короткое время, чтобы поклониться мощам святителя.
Здесь явился к нему второй посол от царя, думный дворянин Юрий Петрович Лопухин, и прочёл указ, которым опальному возвращались все его чины, боярство, все отобранные именья и пожитки.
Ещё ближе к Москве, в селе Братовщине бил челом старцу от имени Натальи брат её, Афанасий, юноша лет девятнадцати, необыкновенно гордый и довольный тем, что был так рано возведён царём-племянником в чин комнатного стольника.
Бедняк не чуял, что это возвышение было для него смертным приговором.
Одиннадцатого мая довольно торжественно въехал Матвеев в столицу. Встреченный Нарышкиными, проехал в свой дом, заранее наскоро устроенный и приведённый по возможности в жилой вид.
Невольно слезы выступили на глазах у отца и сына, когда оба они, безмолвные, печальные, обошли давно знакомые, теперь опустелые, запущенные покои, оглядели стены, на которых грубые людские руки и беспощадная рука времени оставили следы разрушения.
Здесь, по этим комнатам, так уютно обставленным, с тикающими и звонко бьющими порою курантами по углам, ходила когда-то кроткая, весёлая женщина, которую оба так горячо и нежно любили: жена Артемона, мать Андрея…
Она давно лежит в родовой усыпальнице.
И почему-то обоим сразу пришло на ум: скоро ли им придётся лечь рядом с нею, незабытой, дорогой и доныне?
Каждый прочёл мысли другого — и оба торопливо заговорили о чём-то постороннем, чтобы отвлечься от печальных предчувствий и ожиданий.
На другое утро пришлось принять много незваных гостей, и бояр, и стрелецких пятисотенных и пятидесятников, навестивших с хлебом-солью Матвеева, как своего бывшего начальника и покровителя. Потом отец и сын поехали во дворец.
Пётр с почётом, как деда, как старшего в роду, принял Матвеева.
После парадного приёма семья царская удалилась на половину Натальи — и там не было конца расспросам, рассказам, ласкам и слезам.
Когда же Андрей помянул про стрелецких полуголов и пятисотенных, утром навестивших отца, и назвал имена Озерова, Цыклера, Гладкого, Чермного, помянул братьев Толстых, Василия Голицына и Волынского с Троекуровым да Ивана Хованского, — Нарышкины переглянулись с негодованием.
— Вот уж воистину: «Целованием Иудиным предаст мя…» Первыми заявились Шарпенки-браты оба… И Тараруй-Хованский… А Подорванный ужли не был?
— Иван Михалыч Милославский? Не порадовал. Присыла от себя не удостоил. Был родич, Александра. «Дядя, мол, без ног лежит… Котору неделю… А челом-де бьёт заглазно…» Я и мыслю: не мне ли ноги подшибить сбирается?..
— Давно сбирается, — живо отозвался порывистый Иван Кириллыч. — Эх, жаль, ево не пришлось мне за бороду потаскать, как трепал я анамчясь[56] тово же племянника, Сашку-плюгавца. Недаром не любят они меня.
— Буде спесивиться, — остановила брата Наталья. — Слышь, родимый, горя много. Для тово и торопили мы тебя-скорей бы к нам поспешал… Сократить бы надо лукавого боярина и со присными ево.
— Сократим, сократим, хоть и не сразу…
И Матвеев стал совещаться со всей семьёй, что делать? Какие меры принять для подавления бунта, готового вспыхнуть каждую минуту?
— За царя бояться нечего, — в один голос объявил семейный совет — Царь наш миленькой, Петруша-светик, даже тем извергам по душе пришёлся. Одно только хорошее и слышно про Петрушу. Вот роду нашему прочему — конец, коли им уверовать — всех изведут…
— Вот оно как дело, Аремон Матвеич. Чай, и к тебе уж попали списки окаянные. Нас — под топоры всех. Матушку с батюшкой по кельям, под клобук да под кукуль[57]… Сестру Наталью — туды же… Ванюшку-братца — царём, не одним, так с Петрушей разом. А Софьюшку — шкодливую да трусливую кошку злобную, — ту на место охраны обоим государям дать. Таковы их помыслы. Денег кучу роздали. Посулов — и больше сулят… Вина — море разливанное… А толки такие лихие идут и про нас, и про все боярство, что не веря — душа не стерпит слушать их. Стрельцы как ошалелые стали… И бутырские с ими… Вот и порадь[58] теперя: как быть? — задал вопрос Иван Нарышкин.
— Как есть — так пусть и будет. Не трогать их луче пока. Орут они там, а сюды не сразу кинутся… Мы же им и от себя вести дадим. Даров пока пошлём, милостей, льгот ли каких посулим. А тем часом — иноземное войско да пищали изготовим, по городам весть дадим, спешили б дворяне и ратные люди всякие сюда, от обнаглелых дармоедов, от стрельцов стать на защиту всему вашему роду-племени царскому. Да изготовитца поскорее, к Троице уехать хоша бы. Там поспокойне, ничем здеся, для всех для вас…
Общее одобрение вызвали слова Матвеева. Камень свалился с души. Что-то светлое зареяло в том безысходном мраке, которым были словно окутаны уж несколько дней Нарышкины в своём высоком дворце.
Пётр, молча, внимательно слушавший все разговоры из уголка, куда он засел вместе с девятилетней черноглазой, хорошенькой сестрой Натальей, держа за руку малютку, быстро подошёл к старику.
— Слышь, дедушка. Я и раней не боялся… А как тебя послушал — и совсем покойно стало мне… Уж нет, с тобой ничево не поделают мятежники. Велю я наутро плахи готовить… И колодки для них мастерить… Узнают теперя, крамольники…
И снова что-то придающее мальчику сходство с сестрою Софьей проглянуло на миловидном личике отрока.
Улыбнулся Матвеев и другие за ним.
— Не томашись. Всево на них хватит… Дал бы Бог изымать медведя, а шкуру содрать сумеем. А то, слышь, гишпанцы[59] и так толкуют: не побивши зверя, не дели шкуры. Помни это, внучек-государь, светик ты мой, Петрушенька…
И нежно, любовно притянул он к себе на колени отрока, стал гладить по шелковистым тёмным кудрям, целовал полные, румяные щеки, и ясные глаза, и пунцовые губы.
— Совсем вылитая Наташенька… Капля в каплю… И огонёк таков же. Где што, а он уж — вяжи их… И загорелся. Ничево. Обладится. Хороший, истовый будет государь, земли держатель и охрана… Подай Господь, как чается мне…
— Аминь, — общим окликом, словно эхо далёкое, отозвались все на слова деда, такие таинственные, пророчески звучащие в этом тихом покое в этот важный, решительный миг.
Потолковали ещё немного и разошлись.
А когда покой опустел и в соседних горницах стало тихо, раскрылся футляр больших стоячих часов, оттуда быстро выюркнула фигурка уродца, карла царицы Натальи, Хомяка, и ужом выскользнула из комнаты.
Через какой-нибудь час тот же Хомяк вышел из дворца и, пропутавшись, точно заяц на угонках, по разным кривым улочкам и переулкам Москвы, так же незаметно, по-змеиному, прибрался на двор и в хоромы Ивана Милославского, потолковал с ним довольно долго. А потом с Александром в закрытом возке выехал из ворот, прямо к Замоскворечью, в кипень мятежа, в гульливые, бесшабашные стрелецкие слободы.
Злобные, мстительные крики, проклятия и брань слышались всюду на сходах, как только сообщали стрельцам, что Нарышкины послали за помощью по городам, и даже в Черкассы, к гетману Самойловичу[60].