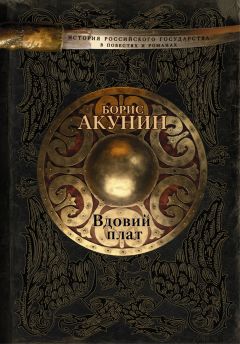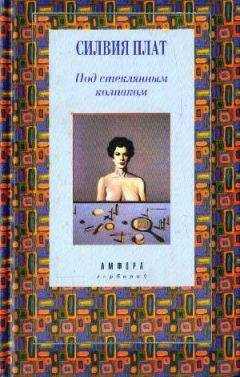Он и руку ей на плечо положил, душевно.
– Внука у тебя родилась, знаю. Вырасти ее такой же сильной, как ты сама. Помолвлю с ней своего наследника – породнимся. Не при мне, так при них станет вся Русь единой, а Москва – новым Цареградом. И достигнет того наше с тобой общее потомство! Так что, Юрьевна, согласна ты иль нет?
Настасья была довольна. Всё, о чем мечталось, сбылось – и даже более.
– На такое не согласиться – надо вовсе без ума быть. – Она коротко рассмеялась. – Я и не ждала, что ты на новгородскую вольность уступишься. Но подумала, отчего бы не попробовать.
Засмеялся и он. Они смотрели друга на друга с удовольствием. Вот какого бы мне сына, подумалось Настасье. Вспомнился ей Юраша – как он лежал на земле, лицом светлый, телом черный. Теперь никакого сына нет. Ну, сестрицы дорогие, за всё сполна мне заплатите. Попотчую вас лихом-горюшком, будете сыты.
Отсмеявшись, великий князь сел, положил костлявые руки на стол.
– Ну, какую шубу сшить, мы с тобой решили. Осталось малое – медведя убить. Новгород пока что не твой и не мой. Есть вековой обычай, есть договор, по которому еще пращуры мои клялись блюсти новгородские права и вольности. Который год ломаю голову, как сей узел развязать. Ничего пока не придумал.
Настасья ему спокойно:
– А и не надо. Уже придумано всё.
Иван к ней так и подался.
– Говори!
– Отобрать у Господина Великого Новгорода вековое право ты не можешь. Однако, если он сам от вольности откажется и признает тебя не господином, но своим государем – тогда дело иное. Никто тебя не назовет клятвопреступником – ни митрополит, ни патриарх.
– Сам откажется от вольности? – недоверчиво переспросил Иван Васильевич. – И что мне для этого нужно сделать?
– Прими завтра новгородское посольство, только и всего. Дьяка Назара Ильина и подвойского Захара Попенка. Они зачтут тебе грамотку от веча.
– И что в той грамотке?
– Всякие пустяки. Не в грамотке дело, а в величании. У Назара с Захарием заготовлено две бумаги. Одна с всегдашним титулованием: от Господина Великого Новгорода господину великому князю. А в другой заменено одно слово: не «господину великому князю», а «государю великому князю». И печати привешены – вечевого дьяка и вечевого подвойского. Грамота, скрепленная сими двумя знаками, считается докончательной. И если великое вече обращается к тебе как к своему государю, это означает отказ от всех вольностей и прав. Государь может поступать с холопами, как ему пожелается. Если же вече потом начнет от грамоты отказываться (а оно, конечно, откажется), это будет твоему государству измена и оскорбление. Иди тогда на них войной, как пошел бы на мятежных холопей.
– А грамота, где меня зовут государем, подлинная? – Князь все не мог взять в толк. – Я знаю, что вечевой дьяк из Марфиных людей. На такой бумаге его печать можно было заполучить только обманом. После он возьмет и отопрется.
«Ишь, до каких мелочей новгородские дела изучил, – подумала Настасья. – Даже кто чей человек знает».
– Не отопрется Назар. Был он Марфин, а стал мой. Дорога с Верху в Низ долгая. Подружилась я с Назаром, нашла к нему ключ. Золотой. Он хоть и вечевой дьяк, а жалования имеет три рубля в месяц. Не больно дорого мне его печать и стала.
– Две грамотки, – повторил Иван Васильевич, теребя бороду. – И которую же они завтра прочтут?
– Какую скажу, ту и прочтут. Договорились мы с тобой, княже? Имею я твое государево слово, что Новгород будет мой?
Великий князь ответил невпопад – вопросом, притом неожиданным:
– А правду ль говорят, Настасья, что у тебя на лбу некий тайный знак? Приподними плат, покажи.
Григориева вздрогнула. Откуда знает? Ведь не видел никто, а кто видели, тех давно на свете нет!
– Зачем тебе?
Но уже сама поняла, зачем. Хочет показать, что от него тайн быть не может. Подумала: «Служанка какая-нибудь подглядела. Вернусь – всех выгоню. Возьму новых».
– У государя не спрашивают зачем. Покажи.
– Прости, Иван Васильевич, – твердо ответила боярыня. – Но я зарок дала. Перед Богом. Вдовьего плата ни перед кем не снимать… Ты мне на вопрос не ответил. Договорились мы или нет?
Иван зашелся в приступе смеха – чуть не до слез.
– Эк, посуровела-то! Шутил я, Юрьевна. На что мне твой лоб? Конечно, договорились. Святить наш уговор крестоцелованием не будем, мы ведь с тобой оба не сугубые молельники. Просто пожмем руки. Никогда прежде женке руку не жал, но ты не просто женка, а великая.
Оба встали, скрепили союз долгим рукопожатием.
На прощание Каменная впервые назвала великого князя по-новому:
– Завтра, государь, вручу тебе Новгород.
Она уже вышла, а Иван Васильевич всё стоял, глядел ей вслед. Сказал вслух, вроде как сам себе:
– Умна тетка, ох умна!
А может, и не себе, потому что сразу вслед за тем обернулся к потайной двери:
– Всё слыхал, Никитич?
Дверь была хитрая – с потайной скважинкой, чтобы слышать и видеть все сказанное в «баньке».
Вкатился Борисов, очень довольный.
– Я тебе говорил, государь, эту кречетиху прикармливать надо, она добудет тебе новгородского тетерева.
Великий князь усмехнулся, он был в веселом расположении.
– А она думала, это она тебя прикармливает. – Подмигнул боярину. – Но ты, чай, не внакладе? С двух маток молоко сосал – и от меня, и от нее.
– Уж от Настасьи молока было всяко поболе, чем от твоей милости, – хитро улыбнулся наместник. – Глянь: перстень с лалом ныне получил. Ты меня таким отродясь не даривал.
– Государева власть слуг не кормит, а дозволяет кормиться, – наставительно молвил Иван. – Что думаешь? Замыслы у Каменной великие. На что у меня голова холодная, и то в жар кинуло.
Старик заколебался, сглотнул. Его всегда мягкое лицо будто затвердело.
– Ты меня знаешь, государь… Я своей выгоды не упущу и себе во вред ничего не сделаю, а всё же твою государеву пользу держу выше своей.
– Знаю. Потому и посадил тебя в Новгород. Для моей державы нет места важней и службы хитрей. Говори, не мнись.
– Трудно такое проговаривается, – вздохнул Никитин. – Но скажу. Настасья Григориева – жена истинно великая, и будет от нее твоему государству в Новгороде такая же великая польза. Побольше, чем от меня. Да уж и стар я, немощен… Ставь ее в мое место. Я хоть и не дурак, но до Настасьи мне далеко. Назначай ее наместницей. Никогда прежде такого не бывало, чтобы баба наместничала, но в Новгороде к бабьему правлению привычны. Всё будет, как она тебе обещает. Получишь ты плотника с чудо-топором, и срубит тебе тот плотник, а верней сказать плотница, палаты невиданного величия.
Сказал – и повесил голову, чуть не заплакал.
Иван снова заходил по комнате, сложив за спиной руки и похрустывая пальцами.
Остановился, повернулся.
– Плох твой совет, боярин. Но это и хорошо, что в тебе верности больше, чем ума. Те, в ком ума больше, чем верности, рано или поздно предают. Опасно государю держать подле себя людей, которые его мудренее.
Калека на это только поклонился сединами в стол.
– Ты ее видал? Слыхал? Как она на меня смотрит! Как разговаривает! Будто она мне ровня! – На худом лице Ивана зло задвигались желваки. Он уже не сдерживался: – Ненавижу, ненавижу новгородскую повадку! Это чума, холера! Если каленым железом не выжечь, на всю державу перекинется! Говоришь, она мне построит палаты невиданного величия? Конечно, построит. И доход даст, и Литву с Орденом поможет сокрушить. А какова будет плата, ты подумал? Сделай такую вот каменную Настасью правительницей над богатейшей частью державы – не сковырнешь ее потом. Умна, хитра, осторожна! То ли она при мне будет, то ли я при ней. Я загадал: если она передо мной заголится, покажет свое родимое пятно, – значит, согнется под мою волю. Нет, не показала, застроптивилась. В малом, считай в никаком деле! Такая не согнется. И, глядя на нее, другие мои наместники, да удельные князья, да бояре тоже спину гнуть перестанут. Скажут: хотим быть, как новгородские. Скажут: правь нами не своим хотением, а по закону. И что я буду за самодержец, если писаные законы выше моей государевой воли? Одно название, вроде польского короля или германского кесаря. Нет, Борисов, мы иначе сделаем…
Наместник распрямился, истово глядя на повелителя: только повели – всё исполню.
– Ты вернешься в Новгород. Я нарочно к ним такого, как ты, приставил: калечного, мягкого, жадного. Чтоб тоже размякли, потеряли страх. А вместе со страхом и осторожность. Пускай Настасья думает, что купила тебя с потрохами, но я-то знаю: ты, калека, десяти богатырей стоишь.
Старик нечасто слышал от своего сурового хозяина похвалу и растроганно шмыгнул носом.