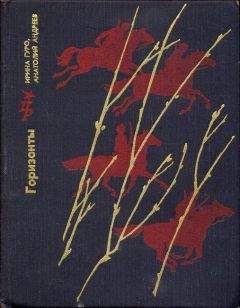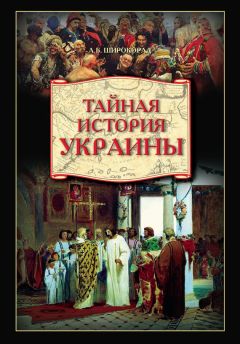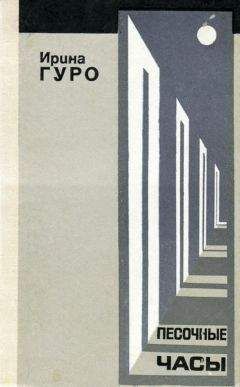Потому и оглянулся Рашкевич невольно, подымая свой бокал.
Но они были одни в квартире. Григорий пуще всего боялся за свой священнический авторитет. И Домна конечно же была отпущена.
— За наше дело, — сказал Рашкевич.
Настоянная на каких-то травках водка пошла легко. Он подцепил вилкой гриб, и, когда клал его на тарелку, воспоминание вдруг обдало его теплой волной. Совсем недавно, на именинах у секретарши Ольги. И за столом трое ее детей…
Рашкевич хорошо знал преданность ему Ольги, давнюю и верную. Но никогда ее в дела не посвящал. И каждый раз, когда возникало у него желание для пользы дела, а еще больше — для собственного удобства открыться ей, что-то удерживало его. Этот раз, последний, удержали глаза трех мальчишек, очень похожие на Ольгины глаза…
Они уже размахнулись и по второй, и по третьей, когда Кременецкий начал разговор:
— Говорил в епархии о неразумном попе Варфоломее. Да они сами все знают. Неужели ты думаешь, что с их благословения или попущения блажит отец?..
— Слушай, Григорий, ты всерьез становишься духовной особой, — перебил Рашкевич. — Да разве Варфоломей чудит? Не чудит он, а так уж ему положено идти вместо с голотой. Сам-то он кто? Нищий. Еле-еле два курса семинарии одолел благодаря милостям той придурковатой помещицы, забыл, как ее… Она все вытягивала то того, то другого из голытьбы, и всегда невпопад. А имение у нее все равно отобрали.
Григорий улыбнулся:
— Он не потому с голытьбой, что сам таков, а по писанию. Его тоже надо прочитать с умом. Пробовал когда-нибудь?
Рашкевич пожал плечами:
— Это по твоей части. А я другой литературой питаюсь: инструкции, циркуляры. Знаешь, язык — абракадабра. И надо ловить дух, усваивая букву…
— А я все больше дивлюсь: все, что мы делаем, надо, мне надо, — нажал на слово «мне» Григорий, — оправдать словом писания. Это слово сжатое, точное, а смысл всегда двоякий. Если не полениться, так и три смысла найдешь. И более. И есть намек иногда в одной букве. Вот к примеру: «Блажен иже и скоты милует». Казалось бы, просто: «Милуйте скоты!» Однако же буква «и» напоминает: во вторую очередь скоты. А в первую кто?
Рашкевич поморщился:
— Охота тебе заниматься казуистикой. При наших-то делах.
Григорий посмотрел на него как бы сверху вниз. «Ну, набрался от святых книг!» — подумал Рашкевич. И вернул друга к действительности:
— Так чем же кончилось с отцом Варфоломеем?
— Ничем. К нему не подкопаешься. У всех что-нибудь, да есть, попу проштрафиться — плевое дело. Варфоломей же — не от мира сего.
Рашкевич рассердился:
— «Не от мира сего»? Ошибаешься, друг, он такой «сей мир» развел у себя в церкви — ого!
— Знаю: «Несть власти аще не от бога». Кто бы мог подумать, что духовная особа применит это к власти большевиков!
— И что же епархия? Мирится? И для нее власть большевиков — «от бога»?
— В епархии тоже люди сидят, Сергей. У них тоже дети есть. Внуки. Мы же не католики. Это им легко. С верой — да на крест! А наши еще подумают, идти ли на крест. Не время фанатиков, Сергей.
— Время фанатиков! — с ударением на первом слове возразил Рашкевич. — Только фанатики в большевики подались. А церковь оскудела. В том и горе наше.
— Да, отсюда и Варфоломей. Но все же он один такой…
— Неизвестно, — жестко ответил Рашкевич. — Не будем обманываться. Время еще преподнесет нам сюрпризы. Кто чистый, кто нечистый, в нашу эпоху не определишь так просто, как во времена Ноя. И Ноя такого нет. А что есть?
— Всемирный потоп, — отозвался Григорий.
— Ну насчет всемирного, так это пока одни мечты «товарищей». А на селе как? — поинтересовался Рашкевич.
— А на селе так: в двадцати дворах моего прихода хлеб припрятан надежно. В одной Терновке — у восьми хозяев.
Рашкевич недовольно перебил:
— Мы что же, для восьми хозяев тебя держим тут?
— У меня шесть сел в приходе. И в каждом свои люди есть, и верные люди, а сомневаюсь только в одном пьянчуге. Может выболтать. Но это даже лучше. Пускай хоть у одного возьмут, не так будут яриться на других. А его если и упрячут, то мы вздохнем свободнее: болтает много.
Рашкевич спросил неожиданно и требовательно, как начальник:
— Ты уверен, что хлеб спрятан надежно? Григорий самодовольно ответил:
— Я же справди духовный пастырь. Без меня ни одна овца хвостом не поведет.
— Хлеба не давать! Это великое дело, — жестко сказал Рашкевич. — Но в этом еще не вся политика. Надо подымать людей на активный протест! Вот чего от нас ждут. Срубить под корень товарищей-коллективизаторов. А тебе, как пастырю духовному, выпадает: благословить руку, карающую насильников.
Григорий поднял голову, что-то дрогнуло в его лице:
— Выпьем, друг, за это.
Тихо звякнули рюмки, соприкоснувшись. Все здесь звучало тихо, как в вате: казалось, тише обычного тикают часы в старинном деревянном футляре на стене, даже голос Григория, такой мощный под сводами церкви, звучал здесь умиротворенно. И в странном противоречии было это со смыслом беседы двух мужчин за столом, уставленным домашней снедью.
— Видел я Ефросинью, — вспомнил Рашкевич, — рассказала, что Степанида вовсе голову потеряла: заявился уполномоченный по хлебозаготовкам, сказал, что монастырю положено сдать пятьсот пудов хлеба. Понимает же баба, что не сдать — страшно, монастырь под удар поставит! А все рыпается, сдавать не хочет, жадность одолела, вроде они с голоду помрут, если пятьсот пудов от щедрот своих отпустят! С Ефросиньей говорить я не захотел, не понравилась мне она в этот раз. А ты напиши Степаниде да построже растолкуй. Хлеб по заготовкам обязательно сдать, и вовремя! А на деревне пусть не сдают. Тогда монастырь будет в стороне от этого дела, и хлебозаготовки по селу сорвем.
Уже проговорив эти слова, Рашкевич вспомнил последнюю встречу с Ефросиньей и то неуловимое, что вызвало у него сейчас эти слова: «не понравилась».
Нет, не то чтобы он не доверял Ефросинье. Она была своя до последней косточки. Подкидыш. Монастырский выкормыш. Степаниде предана, как собачонка. Поэтому и доверие ей такое: получать заказы, отвозить готовую работу. Все это барахло, вышиванье-вязанье. А это ведь деньги. И уж если деньги и товар доверяет ей Степанида, и столько лет, то, без сомнения, доверяются ей и разговоры… И очень удачно придумала Степанида, что именно Ефросинья, со своим монастырским говорком, богомолка с благообразным лицом и скромной повадкой, приносит в дома приличных людей — не нищие же заказывают своим невестам вышитое белье и шелковые одеяла — мнения и советы авторитетной матушки Степаниды: не сдавать хлеб! И то, что это прямое и короткое приказание оборачивается вовсе и не приказанием, а вроде бы рассудительными и богобоязненными речами красивой монашки, это очень хорошо.
Не здесь лежали сомнения Рашкевича. По каким-то неясным признакам показалось ему: занята Ефросинья какими-то мыслями. Кроме тех, что связаны с волей ее покровительницы. Светскими мыслями. Суетными. А ведь он считал, что она предана богу и Степаниде до последнего вздоха. И только он подумал об этом, вероятно даже еще не понимая, откуда эти сомнения, но раз уж он их допустил, то сразу и отметил: как-то по-новому лежат светлые, слегка вьющиеся волосы Ефросиньи, и кожаный пояс на талии затянут туже, и оживление в глазах. И даже в движениях что-то такое… И впервые за долгое знакомство подумалось: «А хороша бабенка!» А уж раз так подумалось, значит, действительно, было в ней что-то новое. Не думалось же раньше!
И может быть, поэтому не через Ефросинью, а через Григория передал он Степаниде наказ: хлеб сдать без звука.
Григорий одобрил:
— Я тоже об этом думал. Степаниде надо держаться всеми способами, не разбогатеют «товарищи» от ее пятисот пудов, подавись они ими. А Степанида укрепится. Другого такого заведения у нас нет.
— Это да, это действительно, — задумчиво ответил Рашкевич. — Крепко надеюсь на Степаниду. Кто знает, как обернется дело. Монастырь и укроет, и накормит.
— Это так, — Григорий смотрел испытующе. Понимал, что не с одними общими рассуждениями и наказами прибыл Рашкевич. Ждал.
И Сергей Платонович рассказал о деньгах, прибывших на имя Титаренко. Деньгах, предназначенных на дело. А что на той стороне зря грошами не кидаются и, следовательно, готовятся к решающим битвам, это Григорий Кре-менецкий и сам знал. Так и воспринял.
И с сугубым вниманием отнесся к совету Рашкевича:
— Титаренко пришлет к тебе человека из своих. Поддержи его дух. Это боевик.
Рашкевич, как всегда, уехал от Григория просветленным.
То свидание, которое зародило у Рашкевича неясные сомнения насчет Ефросиньи, было очень коротким и незначительным: в доме некоего Пятакова в Харькове, на Екатеринославской улице, где Рашкевич был желанным и привычным гостем, а Фрося хоть и своим человеком, но, конечно, на другом уровне — на уровне женской половины Пятаковых.