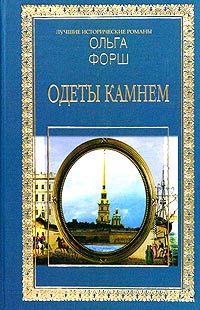Ни в его рукопожатии, ни в скользящем надменно взоре, на миг относившемся и ко мне, я не мог прочесть того, что он мне скажет. Мне даже показалось, по привычному элегантному движению, каким он вынул отереть усы ослепительный носовой платок, распространяя крепкие, но фешенебельные духи, что он позабыл наш разговор и меня самого не отличает от привычной ему тетушкиной мебели.
По просьбе присутствующих граф стая читать письмо Палисадова.
Письмо было исполнено гнусной пошлости и самого лживого ханжества. Но мужчины и дамы, вытянув шеи, с таким алчным любопытством слушали эти бездушные упражнения в элоквенции о последних минутах замученного человека, что меня вдруг охватило отвращение. Внезапно я перестал видеть лица. Вместо лиц мне почудились сплошь блины. Блин с усами, блин без усов. Ни глаз, ни характеров…
И сейчас едва вспоминаю того, с серо-голубыми глазами, и слышу необычайный голос его там, у Летнего сада:
«Дураки, я ведь для вас…»
И потом жадность уличной черни, бегущей на казнь, и жадность черни светской — услышать пикантное о последних минутах казнимого… Мне стало так страшно, так страшно!
Не могу, нырну под койку…
Полежал часочка два за мешками. Обошлось. Ни девочек, ни Ивана Потапыча еще нет дома. Я до их прихода опять прилично улегся в постель. А за мешками мне в полумраке легко, будто выскакиваю на другую планету. Если б рассказать, что я вижу, закрывши глаза, что я слышу!
Однако же нет, я не стану рассказывать: получился бы вред государственному ходу машины, ибо всякий гражданин вместо службы и прочих приличных занятий стал бы учиться выпрыгивать вон.
Но тогда, у тетушки, я еще дорожил мнением о себе, и, выпятя грудь и сделав в меру почтительное выражение, я подошел ближе к дверям, чтобы при выходе графа расспросить его про наше дело. Граф должен был в тот же вечер прочесть свое письмо еще в двух домах и очень торопился. Он подходил уже к ручкам дам; мимоходом, не глядя на меня, он мне обронил:
— Просьба не может быть уважена, его в списках нет.
Помню, я молча поглядел на его хищную, грациозно извивающуюся в поклонах спину и подумал: «Шеф жандармов солгал!»
Я ушел от тетушки ни с кем не прощаясь. Кому мне было жать руку: блинам с усами, блинам с буклями? Я пошел домой, чтобы застрелиться. Мне это было так просто в тот вечер и так неизбежно. Одно меня смущало: кому передать для Веры глиняного петушка? У кого не блин, у кого лицо? Кто человек?
Передо мною возникла вдруг сама Вера, как тогда, на крыльце лагутинского дома. Беловатым огнем сверкнули ее светлые глаза, и, опять вспыхнув, сказала отцу:
— Вы этого не сделаете, батюшка!
Лицо было у Михаила и у того… с серо-голубыми глазами. Даже с высоты черного эшафота, у позорного столба, сине-мертвенное — это было лицо.
Еще необыкновенным, единственным я запомнил лицо Достоевского. Если б я знал, где он живет, я бы пошел к нему. Пред тем как уйти совсем отсюда, я должен взглянуть на лицо человека. У себя дома, в зеркале, ведь я тоже вижу лишь блин. Но я но знал, где жил Достоевский.
Вдруг предо мною непрошеным всплыл некий адрес. Яркий, черным крупным шрифтом, на белом квадрате, как намедни были объявления о казни. «17-я линия, дом…», и голос серебряного румяного молодого старика Якова Степаныча:
— Придет час, по адресочку приди!
И, не рассуждая, я пошел.
Да, шеф жандармов солгал…
Но мне с каждым днем все труднее писать. Приближаются октябрьские торжества, и мое тело все легче, все легче. Теперь я уверен, что даже без упражнений, которые запретил мне Иван Потапыч, я полечу, когда черный Врубель даст знак. Да, через две недели мы соединимся для «великого опыта».
Товарищ Петя Ростов-Тулупов приходил еще раз уже без Горецкого за моими записками. Я рассказал ему, как в чулане достать у нас лестничку и, прислонив ее к железной печке, взять наверху рукопись. Я там спрятал ее от мышей. Я передал Пете все мной написанное, взяв обещание, что он придет через две недели еще, обязательно накануне двадцать пятого. Придет и унесет главу последнюю о последних событиях…
Я больше не могу писать связно, у меня мысли толчками, будто отара овец там, в горах: чуть без пастуха — разбегаются. Да, мысли мои — одни, без пастуха, и все лезут в голову сразу. А бумаги-то кот наплакал. Иван Потапыч больше не дарит. После сумасшедшего дома говорит: «Пиши сверху писанного, не все ли тебе равно!» Что же, напишу самое главное про себя и про Михаила.
Шеф жандармов солгал, царь с ним видался.
Как я об этом узнал? Хотя не сказка, но похоже на сказку. Мне все рассказал Яков Степаныч.
Он сам отворил мне дверь. Комната была узкая, помню половик из разноцветных тряпок, какой плетут чухонки зимой. Яков Степаныч меня узнал; не только не удивился, а будто бы ждал:
— Посидите на диванчике, пока я отпущу пришедших; уж извините приходят.
Он поклонился, пошел в комнату рядом, но дверь не закрыл за собою, и разговор мне был слышен. Мерцала из угла лампада, чернел темный лик. Я почему-то подумал, что Яков Степаныч старообрядец.
— Опять, батюшка, запил, опять, — говорил со слезами старик, вероятно — про сына. — Убить я могу, гажусь я им, опоганел он мне… Легче убить его мне, чем злобой давиться.
— Немедленно передай торговлю старухе, а сам вон из дому, вон! Стань работать, как давеча, год назад. Кули потаскай, гнев разгони: сам родил, сам. А порешишь его — не исправишь. Отопьет сын свое, я его в мыслях держу, отопьет — сам ко мне придет, как тогда, адресок вспомнит. Год целый не пил, а сейчас два не станет. Опять оступится, опять подбодрим. И прутья целым веником никому не сломать, а поодиночке — мигнуть не успеешь.
— Верю, отец, тебе, верю, — сказал восторженно старик и земно поклонился Якову Степанычу. — Пойду отработаю за его душеньку и всю выручку нищей братии…
Старик вышел, высокий, в пальто, с седой бородкой, похоже — небогатый купец. Мне он поклонился со словами:
— Не печалуйтесь, барин, и вас Яков Степаныч, отец наш, рассудит.
Яков Степаныч сам проводил гостя, запер дверь на засов и, вернувшись, еще раз весело сказал мне:
— Извините-с.
Он принимал теперь старуху.
— Уж плачу, рекой изошла, в ногах у ей вяну… не слушает! — ноет старуха. — Как это села она уже три дня на сундук, ни пищи, ни сна, глаза, что чашки, уставила в угол, молчит. Опять, видно, в петлю затеяла. Кум да кума с ней, а я к тебе: облегчи, отец.
Старуха свалилась на пол. Яков Степаныч строго крикнул, подымая:
— Ленива ты, мать! Себя лишь слезами тешишь, а ей твои слезы — банный пар, вконец запаривают. А ей надо б силы поддать. Силушки жить у иного нехватка, бодрить надобно строгостью, да не с бабьей злостью твоей, а с одним гневом за лик человеческий. Эх, глупа ты, мать, что с тебя взять! Хоть силком, с кумой и кумом, тащи твою дочку ко мне, а не расположится скажи: сам, старик, к ней зайду.
Яков Степаныч проводил благодарившую старуху, опять запер засов и, как добрый врач, сказал мне:
— Пожалте-с!
А у меня вдруг пропала охота с ним говорить.
«Василеостровский гипнотизер, — подумал я, — он, чай, и меня включил в число своих клиентов. И куда это платить ему: на стол или в руку?»
Комната была очень чистая. Вся беленая, без обоев. Постель, стол, два стула, на которых мы сидели, и все белое, но на больничный номер не похожа. Полка книг над столом. Я с изумлением отметил Ренана «Жизнь Иисуса» по-французски.
Яков Степаныч тотчас это заметил.
— Ренан вас дивит? Это Линученко мне подарил. Всю книгу с начала до конца самолично мне перевел и на память оставил. Вот завтра на хутор поедете, так особенно поклонитесь ему; твердый он человек.
Старик взял меня за руку и взглянул ясными, на первый взгляд простоватыми глазами.
— Я вовсе на хутор не собираюсь, откуда вы взяли? — сказал я, защищаясь от неприятного мне напора чужой воли.
— Обязательно соберетесь, обязательно… — очень серьезно сказал Яков Степаныч, — сами увидите, что иначе нельзя. Я о вас всю неделю подумывал. Адресочка не знаю, да и сказывали люди о вас, что вы с самого дня казни и дома-то не ночуете.
— Что вы, сыщик, что ли? — вдруг рассердился я.
— В особенном смысле, пожалуй, что и да, — усмехнулся Яков Степаныч, — без сыска и помощи не окажешь. Но перейдем к делу. Дело важное есть. Из-за этого дела я пристально дни и ночи о вас думаю, и вот посчастливилось: ведь всплыл у вас адресок-то, припомнили…
— Колдун вы, что ли? — Я хотел, чтобы меня возмущал шарлатанский прием старика, но внутри я ему почему-то сразу поверил.
— Никакого колдовства на свете и нет, сами вы знаете, и я знаю, — спокойно заговорил Яков Степаныч, — а может быть только большая воля у человека, У одного — к добру, у другого — к злу. В обоих случаях, если при тщательном управлении пристально думать, достигаются вещи, которым принято изумляться, а они вроде как телеграф. В Индии всякий голый факир, как фокус, делает… И у нас есть мужички. Я дедом обучен. Но не во мне сила. Я вам имею сообщить секретное дело для Линученка. Про такое не написать… Ну, словом: того офицера, заключенного в равелине, о котором денщик ваш Петр тогда при мне говорил, я на днях видел.