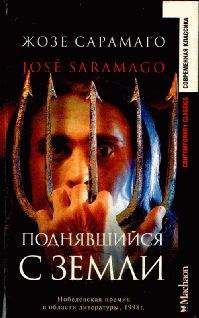Говоря это, Франтишек изо всех сил жестикулировал руками, стремясь таким образом восполнить недостаток убедительных для командира слов.
Но старший лейтенант уже не смотрел на него и снова взялся за телефонную трубку. Было ясно, что разговор окончен.
Франтишек застыл на месте. С минуту длилось молчание. Но вот Франтишек рывком повернулся к стене. Плечи и спина его тряслись. Старший лейтенант поднялся со своего места.
– Не понимаю! – сердито сказал он. – Ты что же, товарищ Франтишек, разжалобить меня думаешь? Что за ерунда!
Франтишек по-прежнему стоял лицом к стене.
– И что это взбрело в твою шальную голову? – продолжал старший лейтенант. – В чём дело?
Тогда Франтишек обернулся и, не дыша, в упор уставился на командира.
– Так и война кончится, – выпалил он наконец, не скрывая злости. – А что туварищ Франтишек сделал на войне? Что?..
Он наступал на командира, продолжая смотреть на него в упор.
– А моя сестра? Кто отомстит за сестру? Кто я ей? Брат или нет?.. Зачем я тогда на фронт пришел? Что Франтишек сделал в Руда Армия? Кушать? Спать? Что?..
Это звучало убедительно. Старший лейтенант, никогда не менявший своих решений, на сей раз стоял молча и задумчиво глядел на Франтишка, словно впервые его увидел.
Перед ним стояла сложная задача.
Давно ли Франтишек прибыл в роту? Что он сделал за это время?
Может ли он, командир роты, доверить Франтишку такое серьёзное и опасное задание?
Было над чем ломать голову!
И всё же старший лейтенант решился. Никогда не смог бы он объяснить, что, собственно, заставило его поверить…
Только наш командир роты знал, когда и куда ушел Франтишек. Это было решение, принятое не разумом, а сердцем, и, кроме старшего лейтенанта и Франтишка, ни одна живая душа не знала о нем.
С того самого мгновения, когда Франтишек вышел из землянки, каждая минута ложилась тяжелым камнем на сердце командира. Может быть, рассуждая с самим собою, он уже мысленно отвечал на суровые вопросы военного трибунала…
И всё же старший лейтенант заставлял себя сидеть спокойно у телефона и ждать приказа.
Томительный весенний день тянулся без конца. Высоко в небе висел громадный горячий диск; казалось, никогда не сдвинется он к горизонту. Вокруг царила мирная тишина, та тишина, которую может нарушить только простая крестьянская песня. Кто бы сказал, что на этом поле, овеянном ароматами весны, хозяйничает старуха-смерть, кто бы поверил, что жизнь ушла в землю, притаилась за брустверами траншей, что за каждым шелохнувшимся стебельком травы, за каждым листком следят сотни глаз и сотни ушей чутко ловят каждый шорох?..
И вдруг справа над травой поднялась знакомая шляпа. Это была шляпа Франтишка, та самая шляпа, о которой все мы уже давно позабыли, привыкнув видеть его в форме. В лесу снова началась дикая стрельба. Десятки автоматов методично расстреливали, разносили в куски несчастную шляпу.
Мы молча прислушивались к тому, что делается вокруг, и только Микита Прокопенко шутливо бросил: «Хоть бы сказились те гитлеристы! Всё равно им никакая холера не поможет!»
Совсем неожиданным для нас было появление самого Франтишка: он подбирался к нашим окопам слева, быстро и довольно ловко ползя по-пластунски. Франтишек был не один: следом за ним торопливо полз какой-то немец, который только и думал о том, как бы поглубже зарыться головой в землю.
Наконец Франтишек прыгнул в окоп и втащил следом за собой пленного. И тут нам стала понятна причина его удивительной покорности: на шее у немца была накинута верёвка с петлей-удавкой на конце. Другой конец верёвки Франтишек привязал к своему поясу. Это было хитро придумано: гитлеровец, с руками, до локтей прикрученными к туловищу, волей-неволей должен был ползти за Франтишком. Задумал бы он отстать хоть на четверть метра – и удавка затянулась бы у него на шее.
– Стреляй! Стреляй, розумна глава! – крикнул Франтишек, показывая в ту сторону, где в траве ещё виднелись клочья его шляпы.
В первый раз мы видели Франтишка таким усталым. Всё лицо его было залито потом. Он попросил напиться, и несколько рук с флягами разом потянулись к нему. В землянке командира роты он положил на стол пулеметный замок и чуть хвастливо спросил:
– Моя сестра мам хороший заступник, а?
Вечером нам сообщили приказ командира полка. Отмечалось, что за проявленную доблесть при выполнении боевого задания командование выносит рядовому Франтишку Лозе благодарность и представляет его к награде.
В ту же ночь мы пошли в наступление.
А спустя две недели наша рота прощалась с Франтишком – он уходил в свою чехословацкую дивизию.
Провожать его вышли все солдаты.
Пожилой боец Микита Прокопенко подошел к Франтишку и тоном приказа сказал:
– А ну, товарищ Франтишек, сделай из обеих рук жменю!
И щедро высыпал ему в горсть всю махорку из своего внушительного кисета.
– Кури, да не забывай товарищей! – сказал Прокопенко.
Франтишек прижался лбом к его плечу.
– Правильно! – отозвался он. – Туварищ! Потом к Франтишку подошел командир роты, крепко пожал ему руку и сказал:
– Когда встретишь свою сестру, передай ей привет от всех наших бойцов!
Стало тихо. Старший лейтенант поднял руку и позвал:
– Вася!
Появился ординарец.
– Вот что, Вася, – сказал командир роты, – отдай свой автомат товарищу Франтишку! Тебе я другой выпишу!
Мы всё наблюдали, как они стояли Друг против друга – ординарец и Франтишек, взволнованные, радостно-возбуждённые, счастливые. Наконец Франтишек шагнул в сторону, прижал автомат к груди и прошептал:
– Спасибо вам! Большой спасибо за Франтишек!…Долго ещё стояли наши солдаты, глядя на дорогу и махая пилотками…
ЧЕРНИЛЬНАЯ КЛЯКСА
Комната в крестьянской хатке как бы придавлена низким потолком. От жарко натопленной печи стоит тяжелая духота. На столах, на подоконнике горят фронтовые лампы – медные гильзы снарядов, сплюснутые вверху с таким расчётом, чтобы фитиль туго сидел в щели. Воздух чадный. На двух сдвинутых вместе столах расставлены наборные кассы со шрифтами: тут боргес, корпус, петит и даже нонпарель. Над ними день и ночь стоит солдат, тонкими чёрными пальцами хватает буквы – складывает из них слова, фразы, заметки. Всю стену против двери занимает огромный, тяжелый ящик, обитый двумя железными полосами, на ящике радиоприёмник; всегда настроенный на одну волну, он как бы ждет, когда сюда, в эту тесную комнату, ворвётся далёкий знакомый голос: «Внимание! Внимание! Говорит Москва. От Советского Информбюро!»
Такой осталась в моей памяти редакция нашей дивизионной газеты. Стоит вспомнить, как трудились по ночам в редакции, чтобы свежий номер поспел к утру, как переезжали каждые два-три дня с места на место, что на фронтовом языке называется передислокацией, как шагали вслед за тяжелым крытым грузовиком, в котором помешалась типография, и – перед глазами встаёт образ лейтенанта Бориса Лемперта.
Секретарь редакции, он же лучший добытчик оперативного материала, он же фельетонист, очеркист, хроникёр, Борис был одновременно и отцом и самым преданным сыном нашей дивизионной газеты. Изо дня в день лейтенант пропадал в батальонах, лазил по всем окопам и ходам сообщения, заходил в каждую землянку, заглядывал в котлы полевых кухонь, а к вечеру, а то и поздно ночью возвращался в редакцию, что называется, набитый материалами. Тут были и письма бойцов, и продиктованные ими заметки, записанные Борисом на чём попало – на клочках серой бумаги, на каком-то чудом уцелевшем в кармане старом конверте и даже на зелёной крышке портсигара.
Лейтенант сидел обычно за маленьким узким столом. Голова его, большая, издали казавшаяся квадратной в нимбе светлых, крутых завитков, местами уже отливавших серебром, склонялась над бумагой. Вслед за торопливым бегом пера двигался взгляд беспокойных глаз, а спина – широкая, могучая – заслоняла весь стол. Пока лейтенант готовил материал в набор, старый солдат Тимофеев, одновременно исполнявший обязанности наборщика, метранпажа и выпускающего, никому не позволял скрипнуть дверью или громко вымолвить слово.
Но вот секретарь редакции поднимал голову, быстро проводил рукой по волосам, и лицо его вдруг расплывалось в широкой, светлой улыбке.
– Сегодня у нас уже сентябрь, – замечал он. – Не успеешь оглянуться, как сыну два года стукнет. Ты это понимаешь, Тимофеич?..
И, не дождавшись ответа, добавлял:
– Вот я ему напишу письмецо!
Он снова хватал перо, и в комнату возвращалась тишина.
О своём сыне, которого он ещё не видел, лейтенант любил рассказывать в любое время и кому придётся – лишь бы слушали. Письма жены он обычно читал Тимофеичу – так ласково окрестили здесь старого солдата. Однажды лейтенант словно полоумный прибежал в редакцию, схватил Тимофеича за руку и сунул ему под самый нос только что полученное письмо. Ошеломлённый солдат принялся протирать очки, притворно ворча: