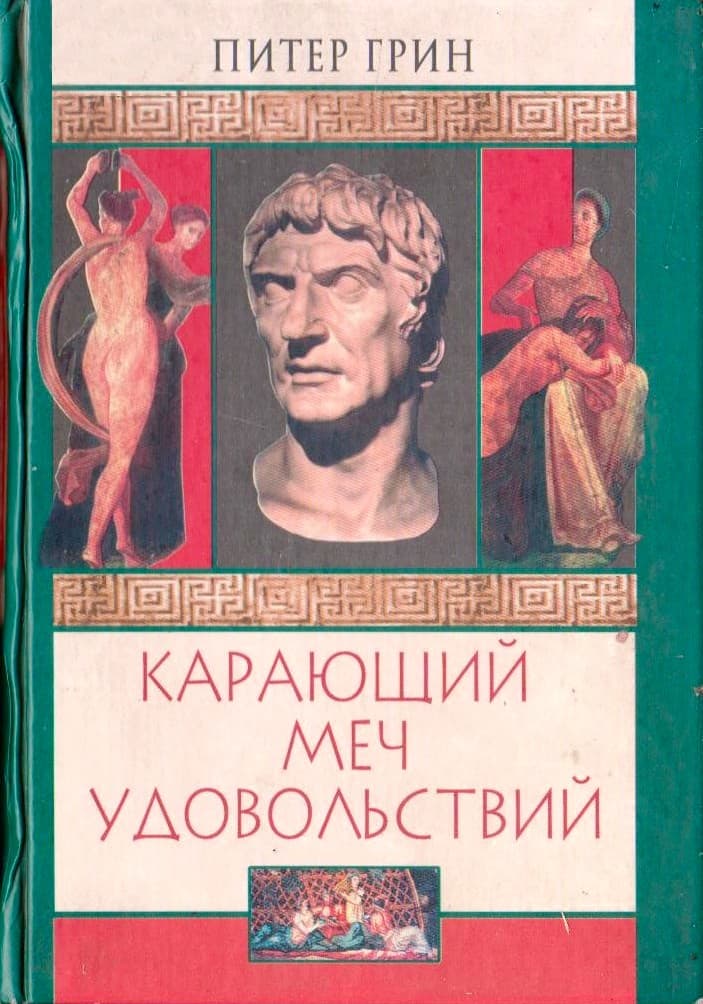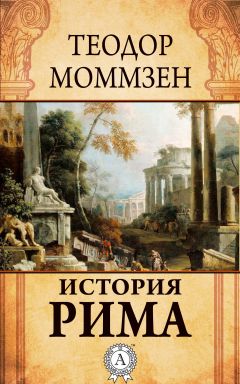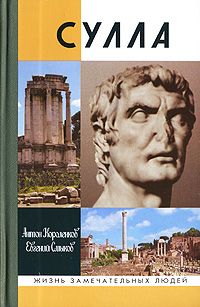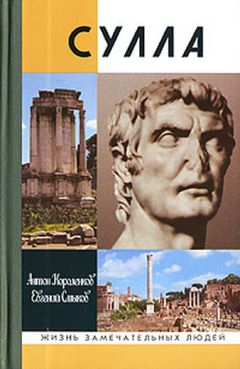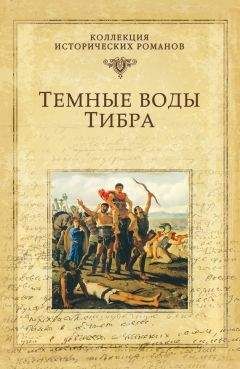своей цели, я желал быть щедрым; да и кроме того, в этом субъекте было нечто, что произвело на меня впечатление, помимо его знахарства с курением фимиама, учености звездочета и знания счетных таблиц. Маг внимательно осмотрел мою ладонь, осведомился о дате моего рождения и тому подобных вещах. Потом принес жертву в присутствии всех нас в чаше над медной треногой и некоторое время царапал какие-то известные только ему вычисления.
Когда он закончил, то распрямился и принялся смотреть на меня в абсолютной тишине. Маг был высоким мужчиной с черной бородой лопатой и глазами цвета зимнего моря. Причудливая коническая шляпа, которая была у него на голове, увеличивала его рост. Но он явно чего-то испугался. В его глазах застыли опасение и страх. Однако он ничего не говорил, пока Оробаз, обеспокоенный, как я предполагаю, чтобы я не счел себя оскорбленным, не спросил его довольно резко, что он увидел.
— Мой господин, — наконец сказал маг, — этот римский незнакомец должен стать самым великим человеком в мире. Удивительно, что даже теперь он не соглашается, чтобы быть первым из всех людей.
После этого он отвесил земной поклон и удалился с наших глаз долой, а два его прислужника унесли инструменты его тайн.
Я спросил переводчика, точен ли был перевод. Тот поклялся, что точен, и Оробаз, который на удивление бегло говорил по-гречески, подтвердил его слова. После этого переговоры стали проходить в атмосфере вежливой разрядки. Я начал ощущать себя восточным монархом — так всем не терпелось мне угодить. Но я с удивлением заметил, что каждый раз, как Оробаз или любой другой парфинянин заговаривал непосредственно со мной и вынужден был смотреть на мое изуродованное лицо, они незаметно из предосторожности скрещивали пальцы от сглаза. Это помогало мне восстанавливать ощущение реальности.
Как можно было и ожидать, я скакал назад в Каппадокию исключительно довольный собой. (Лишь позже я узнал, что почтительное отношение Оробаза ко мне стоило ему головы по возвращении в Парфию; царь счел, что было оскорблено его достоинство, и выразил свое недовольство самым распространенным на Востоке способом.) Однако по прибытии я был возвращен к римской действительности. Среди прибывшей почты я нашел официальную депешу, отзывающую меня назад в Рим, чтобы предстать перед судом обывателей по поводу уже знакомых мне обвинений во взяточничестве и растрате. Ясно, мой откровенный официальный доклад об условиях жизни в провинциях достиг ушей тех, кому был предназначен; я полагаю, финансисты испугались, что я стану такой же досадной помехой для них, какой был Рутилий Руф.
Но я все еще размышлял о словах мага из Парфии. Заранее подготовленная лесть могущественного посла? Возможно. Все же я всегда подозревал, что Фортуна способна, по правде говоря, действовать посредством таких оккультных наук; и не может быть, чтобы этот астролог, какими бы высокопарными ни были его предсказания, коснулся самого потаенного нерва моих невысказанных амбиций. Со значительной долей оптимизма я принялся за приготовления к морскому путешествию домой. Обвинение, поджидающее меня, казалось незначительной, вызывающей раздражение мелочью, что будет отметена моим несгибаемым достоинством.
Я всегда ненавидел возвращения домой, со всеми этими показными чувствами и утомительным церемониалом, который они влекут за собой: объятия и расспросы, обмены подарками, болезненная передислокация физического и социального горизонта. Большая часть моей жизни прошла далеко от Рима. И хотя в молодости я открыто ощущал тягу к городским искушениям столицы, теперь я признаю, что мои возвращения из-за границы или из деревни были неизменно отмечены ростом нервного напряжения. Рим больше не был для меня источником многочисленных удовольствий, а скорее был вызовом, домом только по названию, обширной ареной для неустанной борьбы человеческих амбиций.
Здесь я был вынужден считаться с фактами, о которых в другом месте мог бы забыть или проигнорировать их. Я должен был признать неприятный факт, что традиции и прецеденты, которые оставили нам наши предки, больше не имели для нас никакого реального значения. Появилась новая вера, новые пути, новые люди. В Риме в те критические дни каждый должен был принять решение, с какой стороны бросать свой жребий, с кем быть: с сенатом или с так называемыми демократами. Это коснулось нас всех — и кризис вторгся как в личную, так и в общественную жизнь каждого. Оставаться в стороне было никак нельзя.
Я скоро обнаружил это и в моих отношениях с Клелией. Она была застенчива, серьезна и держалась обособленно, когда я вернулся в наш роскошный дом на Палатине; еще застенчивей, чем моя дочь Корнелия, которая на этот раз порывисто бросилась ко мне, грязному и пыльному с дороги, обняла за шею, поцеловала мое обезображенное лицо и сказала приветственные слова, которые натыкались друг на друга в их рвении достичь моих ушей. Сначала я отнес отдаленность Клелии на счет продолжительности моего отсутствия и не обратил на это особого внимания. Волноваться было не о чем; не было ничего, что пиры, любовь и близость моего присутствия не смогли бы рассеять через пару недель. Однако мне еще предстояло узнать, что наш брак не мог существовать в вакууме, не обращая внимания на общественные события, которые касались меня.
В первую ночь, что я провел в своем доме в Риме, Клелия не пришла ко мне в постель, сославшись на нездоровье. На следующее утро у меня была назначена неофициальная встреча со Сцеволой. Когда я уже было собрался уходить, она подошла ко мне и спросила:
— Это правда, что тебя отдадут под суд?
На ее лице отразилось неподдельное беспокойство; в этот момент мне показалось, что мы ближе друг к другу, чем когда-либо со времени той самой фатальной встречи с Друзом.
— Есть письменное показание против меня какого-то обывателя. Ты же знаешь, что значат подобные обвинения и чего они стоят.
Клелия серьезно кивнула.
— Рутилий Руф был и моим другом, как и твоим, — сказала она.
Такой ответ мне показался странным.
— Я не имею ни малейшего намерения отправляться в благородное изгнание, если ты это имеешь в виду.
Ее строгое патрицианское лицо внезапно утратило всякое выражение.
— Значит, ты не будешь открыто выступать против этого обвинения в суде?
— Есть выход получше.
— Я его знаю, — горько сказала Кделия. — Ложному обвинению будет противостоять коррумпированная взятка.
— Для благородной честности есть свое время и место.
— А разве сейчас время и место не самые подходящие? Я знаю, куда ты идешь. К Сцеволе. Получать поздравления сената за поддержку его подмоченного авторитета. Взять деньги, чтобы заплатить их твоим обвинителям, спуститься до их уровня. Ты можешь отрицать это?
— Превосходно сказано, моя