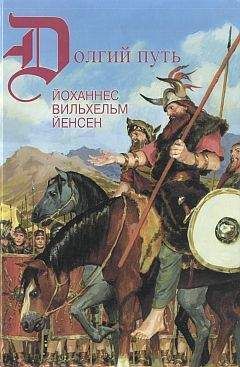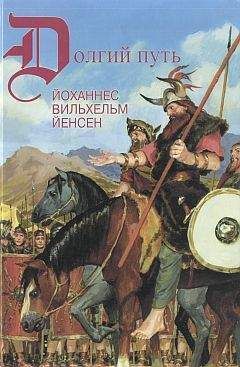У подножия холма, на котором стоял Миккель, работал пахарь. За все время битвы он ни разу не удосужился остановить свою упряжку. Он и так все видел, не отвлекаясь от дела.
В конце концов, как и следовало ожидать, дворяне отчаялись и ударились в бегство; кто рысью, а кто галопом они ускакали на юг. На сей раз они переоценили свои возможности, позабыв, что все равны перед топором. В этом сражении пало много дворян.
Для датских крестьян это сражение стало последним, в котором они по праву бились с оружием в руках. Ибо они в последний раз одержали тогда победу. Два месяца спустя они утратили это право и были судимы как бунтовщики, ибо на этот раз проиграли сражение. И с тех пор датчане перестали быть северным народом.
То был печальный день. Миккель видел, как мужики защищали Ольборг и как они потерпели поражение. Дело было зимой, стоял собачий холод. Дворянским войском командовал Иоганн Рантцау, на этот раз оно было многочисленнее и вдобавок усилено немецкими ландскнехтами и мушкетерами, которых привел Рантцау.
Эти знали свое дело. Иоганн Рантцау{64} пустил в ход столько огнестрельного оружия, что мужики только глазами хлопали. Выстрелы так и сверкали, кося их ряды, это был враг невидимый и неотразимый. Мужики пришли в замешательство, они не знали другого боя, кроме рукопашного. В заветы отцов не входило искусство стратегии. И когда наконец началась рукопашная схватка, то было уже поздно, к тому времени сражение давным-давно было проиграно.
Положение было совсем безнадежно, однако обнаружив это, мужичье ринулось, как кабан против своры собак, каждый сражался за троих; тех из дворян, что подворачивались под руку, мужики крошили и кромсали косами и тяжелыми ножами для резки соломы. Но дворяне вскоре врезались в их ряды, разделили клиньями и окружили. Началось хладнокровное избиение, мужицкое войско было обречено.
Под конец осталось две тысячи веннсюссельцев, которые не могли перебраться назад через Лимфьорд, их всех порубили. Опытные ландскнехты умело загнали всех в кольцо, затем на них двинулись, напирая, дворяне. Стиснутые со всех сторон, мужики стояли плотной кучей. Они до последнего отбивались дубинками и пиками, но дворяне приканчивали их одного за другим, а они плакали горючими слезами на жестоком ветру и, рыдая, валились на снег с разрубленными головами.
Последняя малая кучка оборонялась, как безумная, с яростными криками, они плакали, скрежеща зубами, но от меча уже не было спасения, свинец и железо насквозь прошивали овчинные шкуры и вонзались в трепещущую плоть, тяжелое древко копья опускалось на человеческие руки и с треском проламывало головы, покрытые башлыками. Никому не было пощады, уничтожены были все до единого.
Если бы король Кристьерн перебил в Стокгольме все дворянство, не ограничившись несколькими десятками, то не было бы потом столько обиженных. Эти отрубленные головы давали о себе знать еще на протяжении столетий, зато по тем двум тысячам, которых перебил под Ольборгом Иоганн Рантцау, не больно-то плакали. В тот день мужиков разгромили так основательно, что никакие предания не сохранили повесть об учиненном там избиении. После этой схватки над Ютландией повисло тяжкое безмолвие.
В селение Гробёлле вернулись лишь немногие. Нильс Тёгерсен погиб на поле брани под Ольборгом, его старший сын пал под Свенструпом. Миккель разыскал под Ольборгом тело своего брата и предал его земле. Нильс умер как мужчина в честном бою, спина его была разворочена пушечным ядром.
Андерс, второй сын, вернулся домой с этой вестью, постаревший и изможденный. Впоследствии он вел хозяйство, но был уже подневольным крепостным нового барина, который унаследовал Мохольм.
А время шло. Всесокрушающее время. Дни множились, и ширились года, словно чумная напасть, неподвластная человеку. Незавершенными оставались людские начинания, а вместо величественных замыслов, которые должны были воплотиться в грядущем, время выбрасывало к ногам человечества убогие поделки. И вот уже все миновало и еле брезжит в дали прошедших дней и лет; одни старики продолжали еще толковать по памяти — было, дескать, когда-то. Неостановимое время давно умчалось, оставив позади неудавшиеся опыты; но к тому времени, когда солнце, свершая свой круг в тучах пепла и в огненных вихрях, перевалило за грань столетия, они превратились в свершившиеся факты. Люди, сошедшие в могилу, канули в забвение, а их недовершенные дела стоят непостижимыми вехами на пути к вечности. Их история представляла собой зрелище земли, с которой схлынул потоп — куда ни глянь, высятся кучи донного ила и черные дерева с обнажившимися корнями покрывают бесплодную от песчаных заносов, просоленную почву.
Густав Тролле пал со смертельной раной в сражении при Экснебьерге. Он лежал на земле во весь рост при полном вооружении, закованный в железо с головы до ног, а его смятенный дух не находил покоя, обуреваемый попеременно страданием и чувством искренней радости. Памятуя о том, что рана его смертельна и он не жилец на этом свете, он мысленным взором окинул свое время и дела свои и ощутил обжигающий гнев оттого, что коса его не пощадила; но мятежное волнение так утомило его, что он в смиренном изнеможении благословил предстоящий покой. Его кончина имела смысл, ибо последовательно заключала собой череду бессмыслиц. Он не раскаивался ни в чем, кроме несвершенных дел. Вот он лежит, и все остается по-прежнему, как было вначале, хотя он с тех пор успел состариться. Ради дела он подверг себя одиночеству и в одиночестве кончил жизнь. Она очертила свой круг, и в этом круге не вписано ничего, кроме тщетных упований и утрат. О нем можно было сказать, что ради какой-то — кстати, неведомой — цели он отторг себя от людей и вступил во вражду со всеми живущими. Почуяв над собою власть рока, Густав Тролле наконец-то вкусил усладу смирения, он лежал согретый и послушный; ощутив приступ предсмертного жара, он впервые в жизни покорился.
Его вынесли с поля боя в беспамятстве, и он больше не приходил в сознание. Он лежал в доме, где его сторожили как пленника, и подходившие к епископу люди слышали его хохот. Они видели в его румяном лице с озлобленным ртом личину дьявола. Он ничего не сознавал вокруг, лихорадочный взор его был нечеловечески пытлив и угрожающ. Когда началась агония, люди услышали, что он в бреду потихоньку плачет, точно упрямый ребенок; целый день он проплакал, всхлипывая все реже и реже по мере того, как вместе с уходящей жизнью его покидало упорство. Два дня он боролся со смертью. Однажды с ним случился припадок страха, и он с пеной у рта посылал проклятия призракам, которые, по-видимому, его осаждали. Потом начались судороги, и все тело его вскидывалось, как на стальных пружинах, в промежутках между схватками он лежал в оцепенении и казался сплошным комком твердокаменных узлов. В последнюю ночь наступило облегчение, и он разразился громкими стенаниями. Он умер с воплями, дергаясь, как в трясучке.
После сражения при Эскнебьерге{65} сопротивление на Фюне было сломлено. Одни зеландцы еще поддерживали короля Кристьерна, не жалея ни достояния своего, ни самого живота. Но когда и они были усмирены, вся страна склонилась перед Иоганном Рантцау. Ему пришлось покорять страну по частям, как норовистого коня, который упирается всеми копытами, отказываясь стронуться с места. Те же датчане, которые десять лет тому назад отпали от короля, теперь переменили свое мнение и стояли за него горой: король Кристьерн или смерть! Упорство датчан не уступало их непостоянству. Копенгаген целый год терпел осаду{66}. В последние месяцы копенгагенцы жили в нечеловеческих условиях; сначала они примирились с тем, что им пришлось питаться нечистой пищей живодеров и язычников, и стали есть конину и собачину, уничтожили всех кошек, потом не брезговали уже и тем, чем питаются самые жалкие дикари — ели червяков и употребляли в пищу мышей и ящериц, а под конец стали, как звери, пожирать падаль и гнилые отбросы. Младенцы умирали у материнской груди, как всегда бывает при настоящем голоде. И вот, претерпев все эти неописуемые страдания во имя того только, чтобы сохранить город для короля, когда не осталось таких мук и лишений, которых не испытали бы жители Копенгагена, тогда-то, как бы завершая собой всю цепь бесплодных усилий, произошла сдача города.
Амброзиус Богдиндер, друг Кристьерна с детских лет, который с неослабевающим рвением отстаивал дело короля, покончил с собой, приняв яд! Все жизненные силы и неукротимая энергия этого человека обратились вдруг вспять и поразили его, как бумеранг.
Год спустя в Любеке умер изгнанником Йенс Бельденак. В последние годы жизни он утихомирился, сказалась наступившая старость, да к тому же он был калекой. В свое время он сам никому не оказывал милосердия, и враги расправились с ним беспощадно, как только он попался к ним в руки. Он уже тогда был стариком, когда они наконец-то утолили годами копившуюся месть, подвергнув его жестоким и продолжительным пыткам. Язвительные насмешки, которыми он, не задумываясь, осыпал каждого встречного и поперечного, отлились ему сполна; по старости лет он поплатился за них на своей одряхлевшей шкуре. Падшего служителя божия враги раздели догола, намазали медом и выставили на солнцепеке на съедение мухам и комарам. Глядите, глядите на силача, которого старость лишила богатырской стати — вот он стоит обнаженный, отданный на поругание роящимся на его теле насекомым! Вот он — бывший великий епископ и воин, неутомимый барышник, гуляка и правовед! Вот он — ученый чернокнижник, который проповедовал закон божий, не сходя с седла! Его время кончилось и ушло и больше не осеняло его своим крылом. Эта развалина была некогда неукротимым умником и заядлым игроком. А ныне еле вьется, издыхая, слабый дымок там, где прежде пылал костер всевозможных страстей.