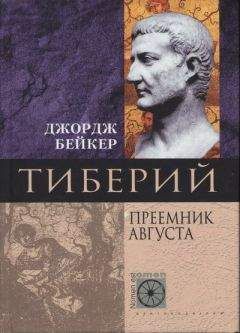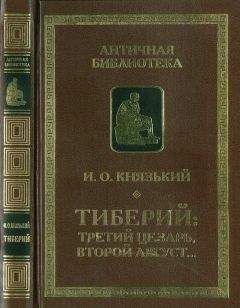Ознакомительная версия.
Однако он еще не совсем отделался от этруска.
События, которые последовали за падением Сеяна, сами по себе были достаточны, чтобы воздействовать на семидесятидвухлетнего человека. Ощущение опасности, неприятности, умственное и нервное напряжение, тяжесть момента, когда все висело на волоске, были способны и крепкого человека поставить на грань нервного истощения. И теперь ко всему прочему пришла новость столь ужасная, что все деяния Сеяна в сравнении с ней казались безделицей.
Месть Сеяна была особенно изощренной и удачной. Он развелся с Апикатой, чтобы жениться на Ливилле. Его первая жена, видимо не пережив разлуки, покончила с собой. Но перед смертью, будучи в курсе всех тайн своего мужа, она отомстила ему, написав письмо Тиберию.
Послание Апикаты открыло истину: сын Тиберия Друз не умер естественной смертью. Он был отравлен Сеяном и Ливиллой.
Никто не писал, что за внешним спокойствием Тиберий скрывал состояние ума и души. Никто не рассказал нам о бессонных ночах от унижения и боли, о том, как старый человек бродил по своим покоям, полный страшных мыслей и ужасающих сомнений. Если он не испытывал подобных чувств, он не был похож на остальных людей, ибо главное заключалось в том, что его провели как мальчишку. Ему было известно больше, чем нам. Он мог оглянуться назад, тогда как у нас нет возможности точно определить, насколько он заблуждался, будучи втянутым в действия, о которых мы теперь можем лишь гадать. И это сделал человек, которому он доверился и оказывал предпочтение, человек, которого в глубине души он презирал!
Есть ситуации столь горькие, столь широко и глубоко охватывающие существо человека, что он становится полностью ими отравлен, и тогда он совершенно меняется и, кажется, утрачивает всякую связь с человеческим сообществом. Нет ничего горше, чем испытать предательство. Человек устроен так, что глубочайшая душевная мука для него — знать, что друг, которому он доверял, использовал это доверие против него, принял его сердечное отношение и растоптал его. Еще обиднее, когда предателем оказывается не один, а все. Нет ничего разрушительнее, чем видеть, как все тебе улыбаются и каждая улыбка неискренна, здороваться с каждым и знать, что каждая протянутая рука вероломна. Но как и боль физическая, душевная боль подвластна закону возвращения в ослабленном виде. Последние всплески больше не приносят страданий. Они просто отравляют и парализуют душу, и то, что поначалу приносило страдание, теперь действует иначе. Человек привыкает к одиночеству, к ужасной изоляции от источника человеческой любви и беззаботного доверия; он привыкает к состоянию одиночества, закрываясь в раковине индивидуализма, и научается наблюдать, оценивать и точно определять то направление, откуда исходит предательство; ставить ему точный диагноз, как опытный врач определяет болезнь при невыявленных еще (невидимых обычному глазу) симптомах, и точно наносить удар без спешки или промедления. Однако эта способность означает утрату всех присущих человеку качеств и способности быть счастливым. Человек в таких обстоятельствах и столь изменившийся — вроде бы уже и не человек вовсе в том смысле, как мы понимаем человеческую природу, он становится словно одержимым демоническим духом.
Слабый человек погибает, возможно от сердечного удара, как мы это называем, или начинает пить, и мы находим его в темных притонах, рассказывающим всем о своих несчастьях в дикой надежде найти кого-то, кто его поймет и прольет на него, возможно случайно, бальзам человеческого сострадания и мимолетной симпатии. Однако сильный человек стоит крепко и становится одержим демоном. Так и Тиберий… Если мы взглянем на его изображение в старости, мы сможем в этом убедиться. Глубокие морщины бороздят его черты, и причина этого не только в приносившей ему страдания диспепсии. В случае с Тиберием это были внутренние, невидимые слезы, проливаемые без всякой надежды. Он утирал их и вновь смотрел на мир с намерением обрести равновесие. Это был непроницаемый, не впускающий в себя взор, который видел все, но не показывал, что он видит.
Откровение, последовавшее за смертью Сеяна, кажется, наделило Тиберия такими демоническими качествами. Всегда опасно, когда человек меняется к худшему. Казалось, все люди и все вещи сговорились, чтобы сокрушить владыку мира, и владыка мира сидел спиной к стене, отбиваясь и нанося удары всем людям и всему на свете. Причудливая логика заставляет одних людей становиться тиранами, а других — их жертвами. Что-то ненормальное есть во всем этом.
Никто не знает в точности судьбы Ливиллы. Одни говорят, она была казнена, другие — что покончила с собой, третьи — что ее отдали Антонии, которая позаботилась о том, чтобы Ливилла тихонько исчезла. Тиберий был полон решимости пролить свет на все это дело. Но теперь это был не прежний Тиберий. Это был новый и ужасающий человек с внешностью Тиберия, излучавший неутомимую и беспокойную энергию.
Правду вырывали под пытками. Дни напролет он был занят дознанием. Он настолько был поглощен этим, что появилась история, будто, когда один из его друзей с Родоса, сердечно приглашенный им посетить Рим, прибыл его навестить, Тиберий, совершенно забыв о приглашении, велел его допросить, полагая, что это еще один свидетель, показания которого следует проверить.[53] Сохранилось много рассказов о его состоянии ума в это время.[54]
Когда не дожил до казни некий Карнул, Тиберий заметил: «Карнул ускользнул от меня». Другому, который после пыток просил о скорой смерти, он отвечал: «Я еще не простил тебя». Это был не тот Тиберий, которого знали прежде. Он не выказывал ни малейшего признака упадка сил или умственного расстройства. Никогда не был он так активен и деятелен. Однако эти нечеловеческие силы, казалось, придавала ему странная демоническая энергия. У него хватило мудрости немедленно пресечь попытку одного из солдат дать информацию и постановить за правило, что ни один человек, связанный с армией, не может заниматься доносительством.
Все документы он направлял в сенат. Даже наветы на него лично и обвинения в его адрес были обнародованы. Ему не важно было, что именно обнародуется: все, с чем он сталкивался, должно было выйти наружу. Фульциний Трион (которому до сих пор удавалось избежать суда, но совесть которого была неспокойна) был столь встревожен таким поворотом событий, что покончил с собой. Его родственники нашли его завещание с ужасающими поношениями Тиберия, которого он называл «умалишенным старикашкой». Они пытались скрыть завещание, однако «умалишенный старик» потребовал, чтобы оно было зачитано вслух без купюр. Никто не мог понять его мотивов, а он не давал себе труда их объяснять.
Тем временем сенат выносил смертные приговоры простым исполнителям. Главарей — Сеяна и Ливиллы — уже не было в живых. Тиберий искал повод для удовлетворения и нашел его, пересматривая дела Агриппины и ее сына Друза.
Тиберий уже знал, что сенат сам планировал привлечь к суду и казнить Агриппину и ее сыновей. Теперь он знал всю правду. Но хотя правда стала известна, ничего нельзя было исправить. Тиберий не мог высвободиться из порочного круга. Он не мог на этом этапе принести извинения Агриппине и Друзу и вернуть им прежнее положение. Он не мог так поступить ни на каком этапе. Искусство этруска в том и заключалось, что он сумел настроить их против Тиберия. Не столь уж справедливо было считать Агриппину источником всей цепи событий. Те, кто ее подстрекал, были виноваты больше, но они были теперь недосягаемы.
Тиберий не мог изменить или попытаться исправить то чувство ненависти, которое питали к нему дети Юлии. То, что Сеян действовал в собственных интересах, дела не меняло. Он, впрочем, мог придать этому делу огласку. Он хотел, чтобы свет увидел всю необоснованную и непримиримую ненависть, кипевшую в душах детей Юлии, утверждавших, что именно он преследовал их, хотя он лишь защищался от обвинений в свой адрес. А возможно, что простое совпадение имен вызывало болезненный интерес Тиберия. Один Друз отплатил за другого Друза.
Здесь могло быть некое странное удовлетворение; ведь когда люди подавлены свыше всякой меры, они находят облегчение в необычном — поверхностное сходство, случайные ассоциации занимают место реального сходства и утраченной подлинности. Сенат был в смятении, когда Тиберий очень подробно, со всеми деталями, с каким-то злорадным удовлетворением сообщил о смерти Друза, сына Германика и Агриппины.
Друз слабел с каждым днем. В течение девяти дней он грыз свой матрас. Тиберий презрительно называл его слабаком и предателем. Он представил ежедневные записи охранников, наблюдавших за кончиной Друза. Как в романе Золя, в них описывалась поминутно каждая стадия смерти от голода в его тюрьме, первоначальные ярость и ужас заключенного, его проклятия и оскорбления в адрес Тиберия. Перечислялись все грехи, в которых его обвиняли друзья Юлии, рассказывалось и что стражники ему отвечали и как они его избивали, когда он старался выломать прутья своей камеры, как, утратив надежду, он изощренно и тщательно призывал проклятия на голову Тиберия, молясь о том, чтобы он был проклят в памяти потомков, поскольку он убил свою невестку (Ливиллу), сына своего брата (Германика) и своих внуков (сыновей Агриппины), утопив свой дом в крови. Сенат в панике покинул собрание, ужаснувшись этой истории. Возможно, старик сочинил это, но он брал на себя ответственность за это преступление, и не нам отвергать его желание этой ответственности. Но здесь была и практическая польза. В послании подчеркивалось, и теперь сенат знал об этом, что Цезарь способен одержать победу над любым человеком, что он готов мстить, отвечать ударом на удар, что для него нет ничего невозможного и он может удвоить любую ставку. Более того, это отрезвило всех претендентов и лженаследников. Во всяком случае, сенат теперь знал, что Друз мертв.
Ознакомительная версия.