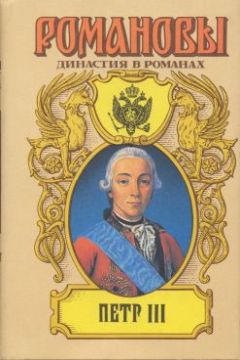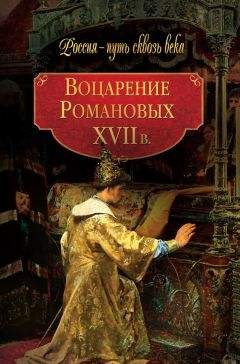Передние комнаты и блестящую толпу придворных обнимала глубокая тишина, эта толпа, тихо колеблясь, всё больше и больше заполняла залы дворца и с нетерпением ожидала появления повелителя, от мановения руки которого зависели их жизнь и судьба. Находили весьма понятным, что император, с его общеизвестной нервностью, нуждался в более продолжительном отдыхе после полного волнениями дня; но волнение и нетерпение толпы всё росли и росли, так как именно в этот день должна была решиться судьба каждого; вместе с тем все были в высшей степени заинтересованы знать, имеет ли ещё над императором власть то великодушие, с которым он простил всех своих прежних врагов и утвердил за всеми друзьями покойной императрицы их прежние должности, или же всё растущее сознание могущества заставит государя стать строже и вспомнить о старых оскорблениях и обидах.
Мало-помалу, по мере того как протекала минута за минутой, к нетерпению присоединилась ещё озабоченность; хотя спокойное выражение лица то и дело проходившего через комнату камердинера Шкурина совершенно уничтожало возможность предположить о том, что с императором случилось какое-либо несчастье, однако русский двор был тогда слишком привычен к необычайным катастрофам и внезапным насильственным переворотам, и вследствие этого при том возбуждении, в которое ввергла всех кончина Елизаветы Петровны, у всех появились боязливые мысли; поэтому во всех залах образовались тихо перешёптывающиеся группы.
Новая императрица, как передавали, уже встала и закончила свой туалет, чтобы появиться пред двором по первому зову императора. Её фрейлины только что вошли к ней; было также слышно, что она приняла графиню Дашкову. Однако она не допустила к себе ни одного из многочисленных придворных, собравшихся ввиду того, что император ещё не вставал, в передних её помещения; каждый из них получил ответ, что государыня покажется двору одновременно со своим супругом.
Даже доверенные лица императора, и те начали беспокоиться, когда и к обеденному времени в его покоях не было заметно никаких признаков жизни. Лев Нарышкин прошептал на ухо Гудовичу, что этак, пожалуй, может разгореться недовольство в народе и войсках, если станет известно и в более широких кругах общества, что император не показывался ещё из своих комнат. Также и граф Алексей Григорьевич Разумовский высказал адъютанту императора своё мнение о необходимости появления Петра III двору, а также в гвардейских казармах; по его мнению, нельзя было знать, не будет ли сделана с чьей-нибудь стороны попытка вооружить войска против едва признанного ими нового повелителя.
Гудович – смелый, мужественный сын Украины – быстро решался. Он надел шляпу, прицепил саблю и вывел в коридор обоих часовых, стоявших пред дверьми во внутренние покои государя и думавших, что генерал действует, очевидно, по приказу его величества; затем, отстранив выглянувшего было боязливо камердинера, он прошёл через небольшую приёмную в жилые комнаты императора. Там он остановился в ужасе на пороге при виде представившегося его глазам зрелища.
Пётр Фёдорович, едва одетый, завёрнутый в широкий просторный халат, лежал на широком диване, стоявшем в глубине комнаты; он был бледен, его глаза глубоко впали, волосы падали в беспорядке на лоб; рядом с диваном стоял стол; на последнем находился самовар, который издавал ароматический запах чая, наполнявший собой комнату. Возле дивана, на котором лежал император, сидела графиня Елизавета Романовна Воронцова; на ней были сапоги и брюки от костюма пажа; кружевная рубашка, одна только закрывавшая собой её плечи, была слегка спущена; её распустившиеся волосы были связаны на затылке в узел. Она занималась тем, что наполняла высокий, удивительной формы стакан, только что выпитый государем, душистым чаем, к которому прибавила потом изрядное количество рома из большого гранёного графина.
Большой стол посреди комнаты, на котором Пётр III расставлял прежде своих солдатиков, был отодвинут в сторону, на ковре, на том месте, где он прежде стоял, Нарцисс, лейб-арап императора, выполнял грубый танец своей родной страны.
– Посмотри сюда, посмотри, Андрей Васильевич! – воскликнул Пётр Фёдорович хриплым голосом, переводя свой мутный взор на вошедшего. – Хорошо, что ты пришёл! Этот Нарцисс удивительно комичен со своими сумасшедшими прыжками… Посмотри только, как он пляшет. Я обещал влепить ему сотню палочных ударов по пяткам, согласно обычаю его страны, если он не допрыгнет до потолка, и теперь он вовсю старается исполнить это; мне было бы почти жаль, если бы это удалось ему, так как должно быть интересно посмотреть на эту невиданную у нас экзекуцию. – Он глотнул из стакана, поданного ему графиней, покачнулся от действия горячего, крепкого напитка и продолжал ещё более хриплым голосом: – Я отпраздновал вчера вечером здесь с Романовной день вступления на престол; она – моя хорошая приятельница, как ни хотели разлучить меня с ней, чего, впрочем, никому не удастся добиться. Мы выпили с ней несколько бутылок старого венгерского, и оно немножко ударило мне в голову. Ах, это хорошо, это оживляет! – продолжал он, делая новый глоток из своего стакана. – Дай ему тоже стакан вина, Романовна; оно согреет его и оживит. Он кажется таким оцепенелым и бледным, будто тоже выпил вчера через меру. Не бойся ничего, Андрей Васильевич, теперь никто уже не смеет упрекать нас и читать нам нотации. Теперь я – император, и то, что я делаю, правильно, а кто недоволен моими поступками, тот пойдёт в Сибирь, – да, да, в Сибирь! – повторил он с мрачным взглядом. – Я был слишком добр вчера; я должен был посадить всех их в кибитки и отправить в каторгу – Шувалова, Разумовского и прочих, а прежде всего – свою жену. – Он несколько мгновений помолчал, смотря пред собой мрачным взглядом, затем протянул руку по направлению к своему адъютанту, стоявшему, скрестив руки на груди, около двери и с боязнью и болью в сердце смотревшему на него. – Но как вошёл ты сюда, Андрей Васильевич? – воскликнул он. – Ведь я приказал, чтобы ко мне не пускали никого, решительно никого, и тебя тоже, потому что все вы пожелаете давать мне уроки хорошего поведения; я не желаю этого, потому что я – император; я один могу приказывать!.. Как осмелился ты проникнуть сюда вопреки моей воле?
Гудович не ответил на этот вопрос, продолжая держать руки скрещёнными на груди, он приблизился к императору, который откинулся назад под действием его строгого, угрожающего взора и завернулся в свой халат, между тем как Воронцова вызывающе-надменно смотрела на молодого, смелого адъютанта, на лице которого не было заметно ни малейших следов страха.
Гудович таким звучным голосом и с такой гордой, повелительной осанкой, что его можно было принять за начальника боязливо сжавшегося императора, произнёс:
– Так как здесь находится графиня Елизавета Романовна, которую долг службы призывает теперь к императрице, то мне, конечно, будет позволено остаться здесь, на месте моего служения в качестве адъютанта вашего величества.
– Романовну я звал, а тебя – нет, – произнёс Пётр Фёдорович, мрачно, но всё-таки с боязнью поглядывая на вытянувшегося пред ним во весь рост сильного человека.
– Ваше императорское величество, вы можете выгнать меня, – сказал Гудович, – но не раньше, чем выслушав.
Пётр Фёдорович готов был подняться для резкого ответа, но взгляд адъютанта покорял его; он отвернулся от графини и опустил голову на грудь.
Гудович приказал сжавшемуся на полу негру выйти; тот, низко поклонившись, выскользнул из комнаты, предварительно взглянув на своего повелителя и не получив от него контрприказания.
– Я не могу удалить графиню, как этого несчастного раба, – произнёс Гудович, – поэтому пусть она останется; если она действительно – подруга вашего императорского величества, то она поддержит меня и живо исправит преступление, которое учинила против вас.
– Какие выражения! – воскликнула графиня, порывисто вскакивая на ноги. – Меня осмеливаются оскорблять в присутствии вашего императорского величества!..
– Я исполняю свой долг, – прервал её Гудович, – и никто не заставит меня молчать. Я должен сообщить вашему императорскому величеству, что весь двор собрался во дворце, что все ждут уже несколько часов появления своего императора, что люди начинают беспокоиться и бояться за ваше императорское величество, что эти опасения распространяются по улицам и казармам и что все требуют видеть императора, принадлежащего с сегодняшнего дня уже не себе самому, а России.
– Кто смеет учить меня, что мне делать? – воскликнул Пётр Фёдорович. – Они будут ждать, пока я не выйду; если мне будет угодно, я просижу здесь безвыходно хоть целую неделю.
– О да, они будут ждать, – угрожающе-иронически заметил Гудович, – и особенно будут ждать враги вашего императорского величества, так как от этого ожидания они лишь выиграют. Но не забывайте, что для того, чтобы удержать власть, надо властвовать и что скоро, очень скоро забывают того, кого не видят, чьей власти не чувствуют. Войска приветствовали вас, народ встретил вас как императора, но не забудьте, ваше императорское величество, что вчера вы превратили в своих врагов весь состав Сената; нетрудно добиться того, чтобы и народ, и войска забыли императора, которого они не видят, и это исполнится особенно легко, если войско и народ увидят императора в таком состоянии, в котором я вижу его сейчас.