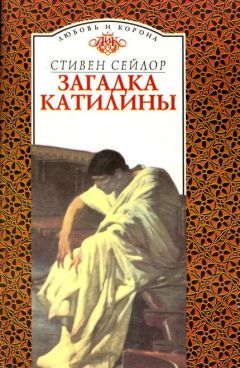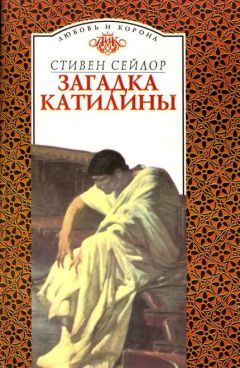Ознакомительная версия.
Поляна перед храмом походила теперь на буйный лагерь бродячего племени. Закрываясь от солнца, быстро соорудили навесы из драных накидок и растянулись прямо в пыли. Кто-то пел, спорил, ел, чавкая и облизывая грязные пальцы, кто-то спал или тискал бессовестно разомлевшую девку.
Катулл и Цинна пробирались к лесу. Полдневная жара усилила смрад, лишь несмелый ветерок прилетал со снежных вершин Иды. Катулл чувствовал себя больным, его подташнивало. У Цинны нервы были крепче, но и он выглядел утомленным.
— Для избранных великая жрица открывает запретные глубины храма, где совершаются еще более древние и таинственные обряды… — сказал бородатый проводник, вопросительно взглядывая на друзей. Но с них было достаточно и того, что они видели. Тогда вифинец посоветовал им покинуть окрестности храма до наступления сумерек. В темноте случаются убийства, их совершают неуловимые фанатики во славу грозной Кибелы. Потеряв всякий стыд, богомольцы рыщут алчными шайками, и насилие может постигнуть каждого беззащитного путника, будь он женщиной или мужчиной.
Все же им не удалось спокойно уйти. Поверх гула толпы разнесся пронзительный вой и беспорядочный стук тимпанов. Толпа притихла.
— Менады! — взволнованно воскликнул вифинец. — Старайтесь не попадаться им на глаза…
Молва утверждала, что жрицы, обуреваемые священным безумием, безошибочно находят того, кто недостаточно самозабвенно участвует в радении, и, придя в ярость, могут растерзать святотатца. Но Катулл и Цинна не хотели пропустить возможности увидеть «настоящих» менад. В Риме они наблюдали только нанятых для праздника проституток, кокетливо принаряженных и весьма потертых.
Богомольцы поспешно расступились, поднимая пьяных и подхватывая свои пожитки. На освободившееся место выбежало из леса десятка три женщин, размахивающих бубнами и погремушками, что-то распевающих кошачьими голосами и скачущих, будто стадо взбесившихся обезьян. От них несло прогорклым потом и резким запахом распаленных самок, заставившим раздуться волосатые ноздри ражих фригийцев.
Скопцы подхватили подолы платьев и с жалким писком бросились к двери храма, куда их немедленно впустили. Прогнав «соперниц», менады с торжествующими криками начали пляску перед статуей Кибелы. Бурые лохмотья и гирлянды весенних цветов едва прикрывали их по-мужски мускулистые тела. В бешеной скачке болтались груди, пот струился по искаженным лицам, жилистым шеям и грязным животам. То одна, то другая жрица вытаскивала из толпы обомлевшего парня или девушку, присоединяясь к исступленному хороводу.
Такая безобразная, взлохмаченная мегера с медным кольцом в носу неожиданно оказалась перед Цинной. Скользнув по лицу юноши сумасшедшим взглядом, она сипло прокаркала что-то на непонятном наречии. Растерявшийся Цинна невольно попятился. Катулл почувствовал, как волосы зашевелились на его голове и под сердце впился омерзительный червь беспомощности и страха.
Менада приплясывала в пыли босыми ногами и повелительно протягивала цепкую руку. Она злобно ощерила зубы и снова обратилась к Цинне, видимо, повторяя вопрос.
— Она спрашивает — мужчина ты или скопец? — перевел сопровождавший друзей вифинец. — Она говорит, что у мужчин не бывает таких гладких щек… Она требует, чтобы ты отдался во власть менад, — добавил он с дрожью в голосе.
Цинна помчался прочь, расталкивая стоявших на его пути. Катулл бросился за ним. Он выхватил спрятанный под накидкой меч и нелепо размахивал им на бегу.
Жуткий, протяжный вой несся им вслед. Неминуемая смерть грозила дерзким нарушителям священного торжества. Лес принял беглецов. Продираясь через колючие заросли, оставляя клочья одежд, исцарапав лица и руки, друзья посматривали друг на друга и кусали губы. Они еще не совсем поверили в спасение, но их уже разбирал смех — бесстрашный, надменный, саркастический римский смех.
Член муниципального совета Вероны, почтенный Катулл давно мечтал сделать выгодные инвестиции. С терпеливой надеждой он думал о серебряных рудниках или, на крайний случай, о сплаве корабельного леса. И все же старому муниципалу изменила обычная прозорливость, когда он посылал в Вифинию младшего сына. Он предполагал, что прилежный Спурий сумеет заслужить одобрение римской администрации и проложит путь для будущих притязаний отца.
Но римляне, занимавшие начальственные посты, не торопились предоставить простор для деятельности «новых граждан». Спурий получал самые ничтожные и хлопотные поручения, которые не приносили никакой выгоды и кончились тем, что в одной из таких гибельных экспедиций он скоропостижно умер вдали от родных ларов.
Старый Катулл тяжело переживал смерть Спурия. Кроме вполне объяснимого родительского горя, исчезла долгожданная надежда наладить связи с малоазийскими публиканами. Рушились подступы к заветной цели всей его жизни. На старшего сына он давно махнул рукой: строптивый и беспечный характер Гая не обещал ничего хорошего.
Когда же Гай обнаружил наконец желание заняться полезным делом и отправился в ту же постылую Вифинию, старик возликовал. Нет, он не думал, что Гай вернется разбогатевшим и приобретшим добрую славу. Да и о каком благе можно помыслить, находясь под началом Меммия, сенатского ставленника и распутного кутилы!
Зато почтенный Катулл видел иное: ветреник Гай перебесился и не прочь зажить другой жизнью с помощью отцовских советов и знакомств. А знакомства хитрого старика многого стоили…
Пусть провалятся в Эреб закосневшие римские сенаторы! И пусть убирается ставший их апологетом болтливый арпинец Цицерон! Есть в республике великий человек, для которого муниципальное или провинциальное происхождение гражданина не имеет значения. Важны личные качества: одаренность, предприимчивость, смелость и бесценна — преданность. Среди его соратников муниципалы из разных городов Италии, греки, испанцы, даже галлы. Находится место и для политических врагов. Он не боится их, он лишь с иронией предлагает: вы способны быть более гениальными полководцами? вы принесете римскому народу больше благосостояния и славы, чем принес я? — что ж, попробуйте! И надменные отпрыски нобилей, воспитанные в ненависти ко всякому святотатственно новому, всему свежему, как весенний ветер, влюбляются в его божественную удачу, в его остроумие и доброжелательность, в его великолепные пороки.
Этому неправдоподобно счастливому человеку старый Катулл регулярно пишет из Вероны письма, наполненные выражениями почтительной и преданной дружбы.
К весне нынешнего года Цезарь завершил победоносную войну с самым сильным из галльских племен — белгами; огромная страна была объявлена римской провинцией. Невиданный поток золота, рабов, хлеба, скота и прочей добычи продолжал низвергаться с альпийских перевалов, пока не затопил всю Италию, весь подвластный республике средиземноморский мир. И за этой фантастической лавиной богатства, военной славы и политического успеха стоял лысоватый, сорокалетний эпилептик с хрупким телосложением и насмешливой, чуть печальной улыбкой.
По его зову в транспаданский городок Луку[162] приехали его сподвижники Красс и Помпей. За ними явились магистраты, промагистраты и двести сенаторов — из шестисот, числившихся в цензорских списках. Подавляя злобу и заискивающе повиливая хвостами, знать спешила изъявить Цезарю свое восхищение. Ликторы, клиенты, многочисленный штат рабской прислуги притащились за господами и заполнили миниатюрную Луку, окрестные виллы и селения. Слухи о грандиозных празднествах, сопровождавших совещания всесильных магнатов, докатились и до Вероны. Муниципалы сбегались к лагерю триумвиров, чтобы на месте узнать последние новости и прокричать Цезарю «ave».
И все-таки старик Катулл был очень осторожен. К чему околачиваться в Луке и мозолить глаза злопамятным нобилям, которые приехали, приклеив к губам любезную улыбку и пряча кинжал под тогой? Если судьбе угодно, настанет срок, и Цезарь сведет с ними счеты. А пока можно следить за событиями, не оставляя забот об окончании сева, деловито беседуя с управляющим Проциллом, посмеиваясь над вечно встревоженной женой. Старик довольно потирал руки. В Верону прилетали волнующие новости, и он соотносил их с собственными затаенными планами.
Во-первых, главой триумвирата, само собой разумеется, будет теперь не Красс, чьи богатства уже не казались невероятными, не Помпей, чья слава скрылась в тумане прошедших лет, а блистательный герой галльской войны. Впрочем, Цезарь был, как всегда, доброжелателен и любезен, хотя уверенный тон его выступлений не оставлял никаких сомнений в том, что он вполне сознает свое ведущее положение в добровольном союзе триумвиров. С сенаторами он церемонился меньше: тем, кто позволял себе говорить двусмысленности, он быстро указал на место; тех, кто ему рукоплескал, осыпал царскими дарами.
Ознакомительная версия.