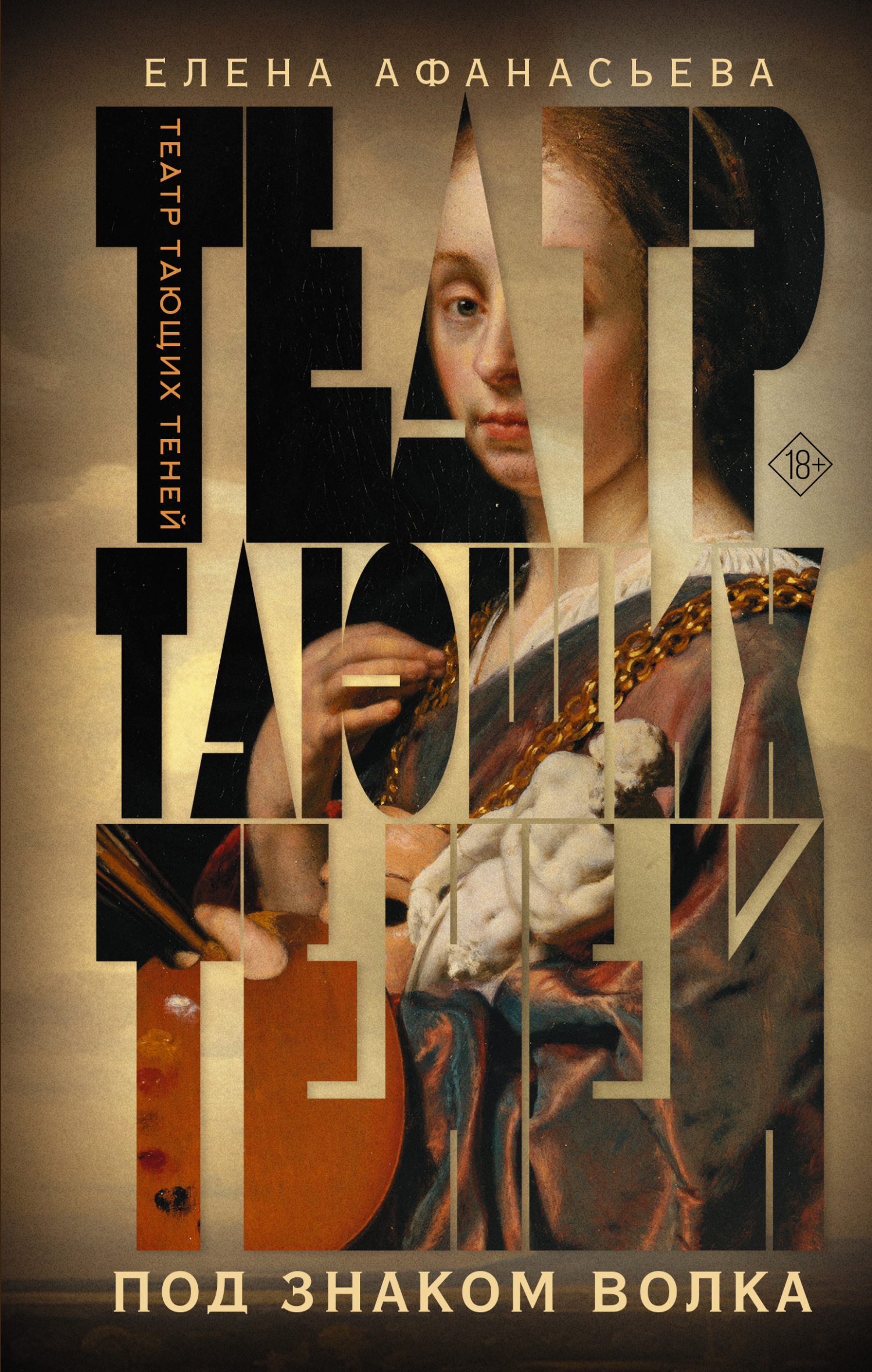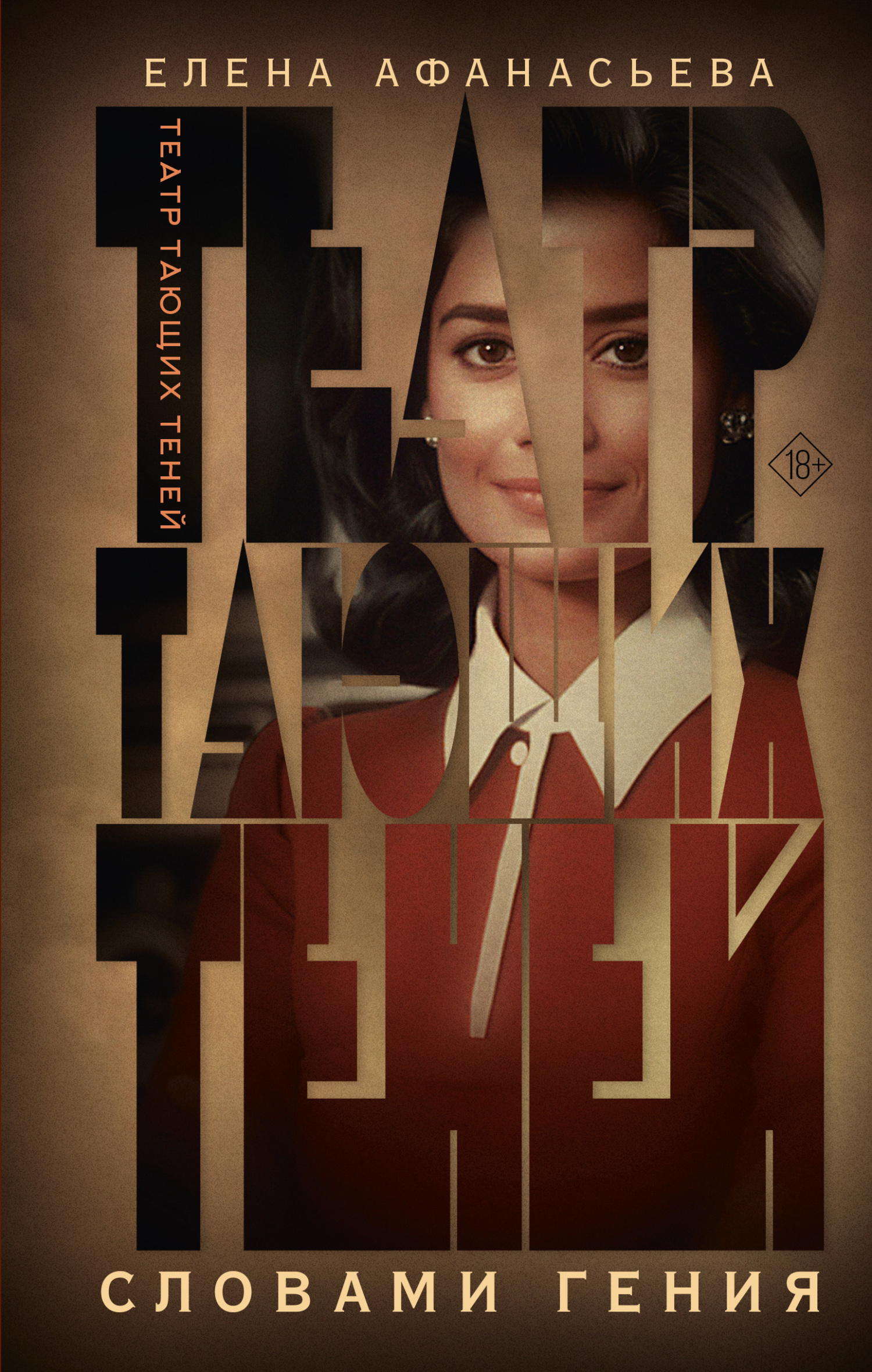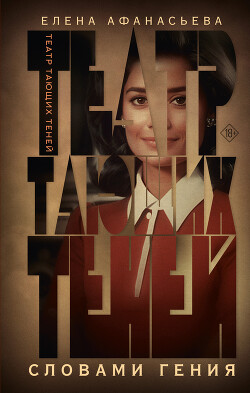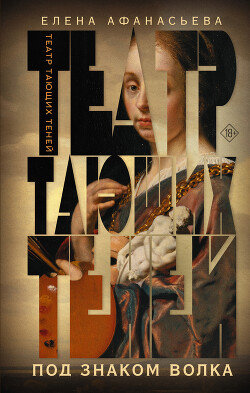и в его постели, когда его естество этого требует по утрам.
Она мама дочки и сына.
Она Агата.
И до сегодняшнего дня это была ее жизнь…
И будет ее жизнью еще несколько часов.
За четыре часа ДО…
Выскользнуть из кровати она выскользнула, но до заветной комнатки наверху с ее волшебным утренним светом добраться не успевает.
Бритген сует ей в руки орущего Йонаса, у которого понос с утра приключился, и он в своем говнице весь перемазаться успел, а холодной водой его не отмыть. Бритте на рынок давно пора, раскупят всё, а муж вечером покупателя на новую картину ждет, важного. Главу Гильдии мясников. Тому если всех положенных почестей не оказать, как следует не угостить, то картину он не купит.
Приходится самой вместо наслаждения утренним светом в старой мастерской с орущим Йонасом на руках печь растапливать, воду греть, вонючую детскую попку подтирать. В точности как на одной из картин ее отца. В детстве ей казалось, что от картины запах детских какашек идет, каждый раз морщилась и нос пальцами зажимала.
С картин отца всегда и свет, и запах идет. Даже не самый приятный, когда у него на картинах люди мочатся, рыгают, а не только благородно покуривают табак. Отца давно нет, а свет и запах остались. Муж злится, когда она отца «не по делу» поминает, даром что муж сам когда-то у него учился.
— И много картин твой отец продал? Кому все эти забулдыги и пропойцы на его картинах нужны! Чернь! Кто такую картину на стену в благородном доме повесит? Рамы дороже изображения.
Да, забулдыги. Пропойцы. Но живые. С запахом и чувством. А не надутые чопорные, при полном параде члены Гильдий на групповых портретах мужа.
Йонас, почуяв рядом материнскую грудь, обеими ручонками к ней тянется, сам из выреза рубахи достает, большой сосок себе в рот сует и за дело принимается. Сосет. Истово так сосет… Молока в груди уже немного, сын уже не младенец. Второй год давно пошел. Но терпеливо сосет. Старается. Пока грудь ни наливается и вынужденно ни отдает настойчивому младенцу желаемое.
Давно пора от груди отлучить. Но как без груди сейчас-то! Так шалью к себе примотала, ребенок сосет, она тем временем печь растапливает, воду ставит, на стол мужу собирает, вчерашние крошки в кормушку щеглу Карлу бросает. Сама теперь детским говнецом воняет, не отмыться. Но Бритта с рынка вернется, мужа проводят, тогда и для себя воды можно вскипятить будет и отмыться.
А пока хлеб, масло, селедку на стол собрать, вчерашнюю похлебку погреть. И под упреки спустившегося вниз мужа, что при такой вони еда в горло не лезет, согретой водой Йонасу осторожно — не обжечь бы! — попу отмыть и всё обкаканное в тазу замочить.
— Что за жена! Мужа как полагается проводить не может! Другие с утра пораньше лишь бы мужа ублажить, а эта селедку на стол, а сама вся в говне!
«Как полагается». Кем полагается? Почему полагается? Кто так положил, что именно она, Агата, обязана мужа ублажить, проводить, все дела в доме переделать, пока он рисовать будет?
Муж не в духе. Не так утро пошло. Отчитывает ее «как полагается». Полагается жену в строгости держать, он и держит.
Боится ли Агата его строгости? Поначалу, когда муж ее из Харлема в Делфт привез, боялась. Теперь и сама не знает.
Шляпу муж надел и новый кафтан — специально шил у лучшего портного Делфта для таких дней, для встреч с заказчиками и покупателями. Хотя зачем ему сегодня кафтан, когда теплый день будет! Она знает, что день будет теплый.
Пока успокоившийся Йонас спит, а дочка Анетта, зажевав похлебку куском рогалика, играет с лучами света и тенью на столе — ее девочка! разве есть что затейливее света и тени! — Агата успевает себе воды согреть, занавеской часть кухни задернуть, перепачканную детским говнецом рубашку и фартук с себя снять… Хорошо еще на шаль не попало! Шаль — единственное, что от матери осталось! Теперь на корточки в большое корыто присесть и, чуть дрожа от холода в летней кухне, себя теплой водой поливать.
Вода медленно стекает по налитым грудям. Высосанная Йонасом грудь меньше второй, нетронутой. Вода стекает по соскам, кажущимся фиолетовыми в этом отраженном от большого подноса на стене свете. Один, натруженный долгим сосанием сына, сморщился до размеров вишни, второй раскрылся как спелая слива и ждет.
Вода причудливыми струйками стекает по ее большому животу — после родов живот не сходит, а если и дальше рожать через год по младенцу, не сойдет уже никогда.
Вода смешивает белесость ее тела и яркие всполохи просочившихся сквозь рубаху и испачкавших живот ярких, почти оранжевых следов детских испражнений.
Вода медленно размывает эти следы, и Агата смотрит, как истончается цвет, растворяется, переходит в бесцветность воды.
И течет долго и красиво вниз к пушистому рыжему паху и дальше по ногам…
— Я уписалась! — кричит из-за занавески Анетта. И цвет исчезает.
Быстро утереться, накинуть на себя чистое и скорее менять мокрые штанишки дочке, которая так увлеклась игрой света и тени, что забыла попроситься на горшок.
За полтора часа ДО…
— Дедушкину сказку! Мамочка, пожалуйста!
Золотые кудри Анетты, выбившиеся из-под чепчика, причудливо играют на холодном осеннем солнце.
— Расскажи дедушкину сказку про принцессу и колечки! Расскажи-расскажи!
Они с дочкой несут обед мужу. Бритта занята уборкой перед приходом важного гостя, и у Агаты есть повод самой обед отнести, несколько минут в мастерской провести, и может удастся красок понемногу разных прихватить.
Пока детские ножки в тяжелых деревянных башмачках кломпах семенят в два раза быстрее ее широких шагов, а деревянная лошадка на колесиках едет за ними на веревочке, можно и сказку рассказать. Дедушкину. Хотя какой из ее непутевого отца дедушка! Он и отцом-то таким, «как полагается», никогда не был.
Она, Агата, дочка бедной родственницы хозяина корчмы «Три миноги» и постоялого двора в Харлеме.
Мать с детства прислуживала в той корчме, рядом с Харлемской Гильдией, где всегда останавливались художники.
И среди них гуляка и мот Адриан Брауэр.
По пути из Брюсселя в Гаагу или из Амстела в Антверпен, проезжая Харлем, всегда жил в «Трех миногах».
Так она, Агата, и родилась. Дитя невенчанных родителей. Плод греха. И любви.
Когда веселый человек в потертом кафтане с кружевом некогда дорогого воротника заезжал в эту гостиницу, она знала — это отец!
Отец всё больше пил с такими же веселыми гулякам, как и он сам. Пил с беднотой,