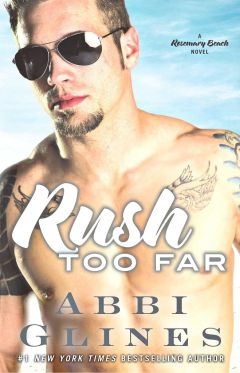Кое-что написал; получил жалованье от правительства, которому больше был не нужен; новое платье; статья для европейского читателя, трактующая о революции, — вымученная, вялая статья; новый «Кризис» со следами былого огня; почему до сих пор не легализован мирный договор?
Несколько недель у Керкбрайда. Заходили старые солдаты, вспоминали путь, пройденный тысячу лет назад от Хакенсака до Делавэра, — но разговор то и дело сворачивал на другое. Светлым, огромным рисовалось Америке будущее.
Но только он тут был при чем?
Он изо всех сил старался пробудить в себе интерес к будущему Америки, к трофеям и славе, к хвастливым воспоминаньям, к предположениям и домыслам, к наступающему подъему, к гордому сознанию, что он — свободный гражданин великой республики…
Где нет свободы, там моя отчизна сказал он когда-то.
Пришел долгожданный мир; Америка охорашивалась, самодовольно распуская хвост, независимая, свободная. Фейерверки и флаги, речи, банкеты — нескончаемое упоенье торжеством.
Усталый англичанин, в прошлом корсетник, писал среди прочего:
«Минули времена испытаний — и величайшая, самая полная из всех революций, какие знал мир, победоносно и счастливо завершилась».
Он мог бы подписаться: Том Пейн, революционер не у дел.
Блейк, художник и поэт, говорил ему, Тому Пейну:
— Они намерены кого-нибудь повесить, и этим кем-то вполне можете оказаться вы. Скажу больше — им нужно, чтобы это были вы. Они с самого 1776 года спят и видят, как бы набросить петлю вам на шею. Нельзя до бесконечности дразнить льва в его логове, и Англия — это вам не Америка…
— Да уж, Англия — не Америка, — согласился Пейн. Он и сам теперь это знал.
— Так, значит, убирайтесь подобру-поздорову из Лондона. Убирайтесь из Англии. Мертвый вы уж никому не пригодитесь.
— Бежать, — пробормотал Пейн, и Блейк невесело усмехнулся.
— Мне-то совсем не до смеха, — сказал Пейн.
Все рухнуло, точно карточный домик; шел тысяча семьсот девяносто второй год и он, Томас Пейн, эсквайр, революционер не у дел, поспешно укладывал обшарпанный чемодан, готовясь к бегству из Лондона, от виселицы, — туда ему пока было рано. Ему едва исполнилось пятьдесят пять. Он говорил, дайте мне семь лет, и я напишу «Здравый смысл» для каждой нации в Европе. И начал с Англии. Написал книгу, которую назвал «Права человека» — только читатель оказался не тот, не те упрямые злые фермеры, которые когда-то схватились за оружие под Конкордом и Лексингтоном. Да и ему, как-никак, пятьдесят пять, и он устал и спасается бегством.
Примерно за час до рассвета, еще затемно, к нему застучали в дверь; Фрост и Одиберт желали знать, какого черта он мешкает.
Теперь осталось все пошвырять как попало в чемодан: «Права человека», нижнюю сорочку, неоконченную рукопись.
— Иду…
— Почтовая карета на Дувр ждать не станет — и палач тоже!
— Я же сказал, иду!
Значит — кончено; Англия вновь откатывалась к тому же, чем была до сих пор. Вспыхнуло на короткий миг ярким пламенем — и погасло; бесславно развеялись планы, тайно выношенные в тесном кругу в погребках и трактирах. Сорок два мушкета, что сложены в подвале у Тадиеса Хаттера так и будут валяться там, покуда их не съест дотла ржавчина. Бочонок с порохом спустили в Темзу, а корабельщики и рудокопы, ткачи и лавочники будут лишь переглядываться изредка с виноватым, пристыженным видом, как люди, которые на минутку размечтались о невозможном и осмелились поверить в свою мечту.
— Я иду, — повторил Пейн.
В почтовой карете, трясясь по ухабистой дороге на Дувр, Фрост подтолкнул его локтем и прошептал:
— Видите, вон впереди Ленард Джейн.
Джейн; королевский соглядатай, один из многих востроглазых господ, которые шастали там и сям, прислушиваясь, приглядываясь; тайной полиции в те времена еще не существовало.
— Вы, по-моему, говорили, что никто не будет знать, — с обидой пожаловался Пейн.
— Стало быть, знают — ничего не поделаешь…
В бледном свечении зари, потом — под яркими лучами алого утреннего солнца надо было сидеть и пытаться представить себе, каково будет умирать, повиснув с петлей на шее, а перед тем, когда повезут на виселицу, — слышать, как каждый встречный мальчишка-оборванец будет орать тебе вслед гнусный стишок:
Том Пейн, будь проклят навсегда,
Ступай с позором за порог.
Тебе не скрыться от суда,
Тебя навеки проклял Бог!
В сумятице нахлынувших мыслей он зашептал Одиберту:
— Если меня схватят, вам надо попасть в Америку, идите там к Вашингтону, он меня помнит, расскажите ему, как все тут было, скажите: Англия ли, Америка — это неважно, важно только, что не нашлось такого человека, как он…
Его не взяли — оттого лишь, впрочем, что побоялись за себя.
— Даже здесь, — сказал ему Одиберт, — нельзя схватить человека без ордера на арест.
А с ордером вышла неувязка: когда они проходили таможню в Дувре, ордер туда еще не поступил.
Таможенники перерыли у них весь багаж, наткнулись на книгу Пейна и разорвали пополам, половинки швырнули на пол:
— Вот тебе, окаянный, права человека — получай!
Все мысли о том, каково будет умирать на виселице, разом кончились.
— Заткнись, свинья, — рявкнул Пейн с тем же металлом в голосе, какой звенел в нем десять лет назад. Пейн был, в конце концов, солдат, и он сказал, сверкнув глазами: — Заткни свою поганую пасть! — И подобрал с пола половинки книги.
Их заперли в казенном помещении, всех троих; вызвали из казармы отряд, шесть человек красных мундиров, и поставили караулить у дверей.
— Если пакетбот отчалит без нас… — сказал Фрост и чиркнул себе пальцем по шее.
У таможни стала собираться толпа, было слышно, как кто-то загорланил, а другие подхватили: «Том Пейн, будь проклят навсегда!..»
— Народ ваш хваленый, — ядовито заметил Фрост, — которому предлагалось стать под знамена свободы и справедливости.
— Бедняги.
— Не расточайте понапрасну свою жалость. Если мы скоренько отсюда не выберемся, вся ваша жалость понадобится нам самим.
— Для чего нас здесь держат?
— Ордера дожидаются, для чего же еще?
Через некоторое время начальник таможни отпер дверь:
— Ну, Пейн, благодарите Бога, что вас отпускают. И больше в Англию не возвращайтесь.
Сквозь улюлюкающую толпу, под градом проклятий Пейн и его спутники кое-как пробились на пакетбот. Выбрали якорь, и два буксира потащили паромное суденышко из гавани. Пейн стоял на палубе.
— Ну как, вернетесь? — спросил Одиберт, когда белые меловые утесы отступили вдаль.
— Вернусь. Будет так — Франция, Англия, Америка — и потом весь мир. Я вернусь.
В безопасности, на борту парома через Ла-Манш, оставив Англию, оставив позади палача и разъяренную толпу, Пейн размышлял о том, как потихоньку, шаг за шагом начиналась эта катавасия. Там, в Америке, когда борьба завершилась, он для себя решил, что оставляет ремесло, именуемое революцией; хотелось быть просто Томасом Пейном, эсквайром; мечтал заиметь для себя нечто вроде того, что есть у Вашингтона в Маунт-Верноне. Он был еще не стар, когда революция победила: всего лишь сорок шесть лет — в такие годы жизнь для мужчины еще не кончена. Взять хоть, к примеру, того же Франклина.
Приходит время, когда у человека возникает потребность отойти в сторонку и сказать себе, много сделано достаточно, теперь я хочу есть и пить, отсыпаться, размышлять, беседовать с друзьями. Был изумительный, незабываемый день, когда он провел не один час, сидя на теплом солнышке с Франклином за беседой о материях философских, материях ученых.
— Попробуйте занять себя наукой, — говорил ему Франклин. — За нею будущее, это заря новой эпохи.
— Да я бы не прочь, — сказал Пейн; у него загорелись глаза. А что, разве он не заслужил? Не он один, разумеется, выиграл войну — но ведь и не один Вашингтон, не один Джефферсон или Адамс. Его роль не столь уж ничтожна; никто не упрекнет его в чрезмерной алчности, ежели он похлопочет о маломальском вознаграждении, обратится в Конгресс с ходатайством, чтобы ему предоставили какие-то средства к существованью, поскольку у него ничего нет, кроме революции, поскольку род его занятий — совершать перемены, а перемены свершились.
Он получил небольшой пенсион, кроме того — дом в Борден-тауне и еще один дом в Нью-Рошелле. Этого было достаточно. Он жил скромно: немного вина, простая еда, мастерская, — вел переписку с пытливыми умами со всего света, которые нетерпеливо буравили смотровые оконца в будущее.
Подписывался: «Томас Пейн, эсквайр».
Человек меняется, это естественно; времена испытаний отошли в прошлое. Он баловался политикой, но так, как это принято в хорошем обществе, как это делали бы Моррис или Раш. И если ему теперь случалось увидеть нищего, забулдыгу-пьянчужку или бывшего вояку, постаревшего, истерзанного дизентерией и сифилисом; однорукого словоохотливого солдата, артиллериста с пустыми глазницами, выжженными горящим порохом, то он уж больше не говорил себе, вот она, участь Томаса Пейна, когда б не милость Господня.