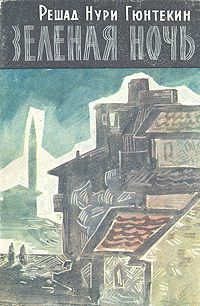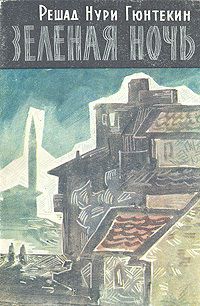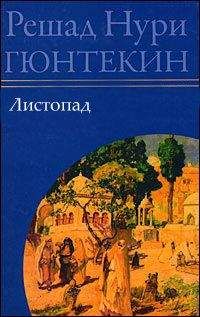Доган-бей, ну что ты горюешь, как слепой, потерявший палку. Это всё без толку,— заявил Неджиб.— Надо что-то придумать.
Ихсан вдруг вскочил с самым решительным видом.
Я иду к Русухи-бею. Будем советоваться. Систему защиты я изменю, пожалуй, рискну на дерзкий шаг. У кавказцев есть поговорка: «Или осёл поклажу, или поклажа осла». Была не была! Навьючим все на пастуха и на жену Нихада-эфенди. Я обвиню их в лжесвидетельстве. Они отказались от своих первых показаний в результате угроз и уговоров... Люди они простые. Перекрёстным допросом суд заставит их сказать правду. Я буду настаивать. Но этим я не удовлетворюсь. Да, да, я скажу во весь голос: если уважаемый суд выведет на чистую воду тех, кто принуждал к лжесвидетельству старого пастуха и эту женщину, он тем самым не только спасёт Нихада-эфенди от несправедливого приговора, но и схватит за воротник действительных преступников. Ибо раз подтверждается, что пожар — результат умышленных и преднамеренных действий, значит, непременно должны быть и злоумышленники. Безусловно и другое: виновник или виновники этого преступления стараются направить следствие на ложный путь. Вместо себя они хотят подсунуть невиновного и добиться его осуждения. Допросите ещё раз пастуха и женщину. Заставьте газету «Сарыова» объяснить столь удивительное совпадение: почему сообщения о том, что главные свидетели изменили свои показания, опубликованы в один день. С особой тщательностью допросите сына сторожа тюрбэ и отставного чиновника, которые упорно твердят, что видели Нихада-эфенди в ночь происшествия...
Неджиб захлопал в ладоши.
— Браво, Ихсан! Прекрасно!
С места сорвался Шахин-эфенди.
— Подожди, не шуми! Речь защиты, а точнее, контратаку я нахожу великолепной. Однако в этом вопросе я не могу пока доверять собственной логике... Всех тонкостей закона мы ещё понять не в состоянии. И не в обиду будь сказано, как раз в этом пункте я не слишком доверяю даже Ихсану. Как бы там ни было, но он юноша пылкий и малоопытный. Идём вместе к Русухи-бею. Второпях да в волнении как бы ошибок не наделать, тогда погубим бедного человека.
Глава двадцать четвёртая
Закон был ясен и не допускал никаких толкований. Статья сто шестьдесят третья гласила: «Всякий, кто вызовет пожар с заранее обдуманным намерением (если в результате этого пожара не было человеческих жертв), приговаривается к каторге пожизненно».
Около тридцати свидетелей, приняв присягу и поклявшись на Коране, словно прилежные ученики на экзамене, повторяли на суде одно и то же: они знают Нихада-эфенди как безбожника и безнравственного человека; собственными ушами они слышали, что он говорил: «Сжечь это тюрбэ до основания...»
Однако никто из них не подтверждал, что собственными глазами видел, как учитель поджигал гробницу. Только отставной чиновник и сын сторожа на суде, как и на следствии, показали, что видели учителя в окрестностях Келями-баба во время вечерней молитвы, приблизительно за полчаса до пожара.
Пришла очередь давать показания жене Нихада-эфенди и пастуху. Женщина, видимо, очень волновалась,— она вся как-то съёжилась под широким чёрным чаршафом. В своих показаниях она подтвердила то, о чём уже сообщала газета «Сарыова».
Что же касается пастуха, то он держался очень спокойно; на лице его была написана безмятежность, свойственная людям честным и простым. Без малейшего колебания он положил руку на Коран и присягнул. Потом, указывая пальцем на Нихада-эфенди, сказал:
— Да, я видел этого человека около источника. Но теперь я хорошо вспоминаю, это было не в день пожара, а накануне. Что поделаешь, старость... Раньше я неверно указал день...
Шахин-эфенди не поверил в наивную простоту старого пастуха, он точно почуял, что за ней скрывается корыстолюбие лицемера.
Суд счёл необходимым заслушать также показания товарищей по работе и начальства Нихада-эфенди.
К свидетельской трибуне друг за другом подходили заведующий отделом народного образования, директор гимназии, учителя...
Заведующий казался опечаленным и даже несколько сконфуженным.
— Нихад-эфенди относится к своей работе достаточно старательно, любит своё дело. Что же касается его частной жизни, то тут, к сожалению, ничего хорошего я о нём не слышал. Вместе с тем я не замечал в этом человеке склонности к смуте, бунтарских настроений. Никак не могу поверить, чтобы он ни с того ни с сего мог поджечь гробницу Келями-баба.
Директор гимназии, вырядившийся в форменный мундир, словно для праздничного визита, начал свою речь, как заправский оратор:
— Один знаменитый философ сказал: «Я люблю Сократа, но истину я люблю больше»[77]. Не претендуя на философическую мудрость, ваш покорный слуга позволит себе, однако, перефразировать эти слова. Уже многие годы мы с Нихадом-эфенди коллеги, мы товарищи по профессии, и я люблю его, но справедливость и истину я люблю ещё больше...
После столь витиеватого вступления директор гимназии буквально обрушился на Нихада-эфенди. Он постарался даже уколоть заведующего отделом народного образования.
— Когда чиновник, или служащий, или, скажем, учитель аккуратно исполняет свои обязанности, это, безусловно, заслуживает всяческого одобрения. Но, по моему скромному разумению, нельзя так узко, однобоко понимать слова: «Любит своё дело». Мало любить дело, надо ещё посмотреть, а каковы результаты этого дела...
И тут директор гимназии начал обстоятельно разбирать недостатки уроков Нихада-эфенди. Свою критику он закончил язвительным замечанием:
— Учитель Нихад-эфенди не пропустил ни одного часа занятий. Даже когда он бывал болен, он приходил на уроки. Но, несмотря на это, познания учеников и в математике и во французском языке находятся, к сожалению, в весьма плачевном состоянии...
И вдруг подсудимый, следивший за процессом с меньшим интересом, чем многочисленная толпа зрителей, давивших друг друга на галерее для публики, впервые обратился к председателю суда и попросил слова. Зал замер. Затаив дыхание от любопытства, все ждали: наконец преступник сообщит что-нибудь важное. Но учитель и не думал защищать себя, он встал на защиту науки.
— Все уроки как уроки...— сказал он насмешливо.— Да и учат у нас вроде бы одинаково. Только вот когда французского языка не знают, то по-французски не говорят, а когда в математике не разбираются, то и задачу решить не могут. Поэтому невежество ученика сразу в этих предметах заметно. Между тем если ученика, не знающего истории или, скажем, химии, спросят заданный урок, и он ответит, потому что вызубрил его, ничего не понимая, то считается, что такой школьник прекрасно знает весь курс истории или химии. Следовательно, виноват тут не учитель, а предмет, который он преподаёт...
В публике поднялся шум, смех. Председатель суда призвал директора и Нихада-эфенди к порядку, заметив, что судебное заседание — не место для дискуссии по педагогическим вопросам, и предложил вернуться к показаниям.
Директор гимназии продолжил своё выступление. Сначала он сделал небольшой экскурс на тему о том, что говорить перед судом правду — не только высшая духовная обязанность человека, но и его право, религиозный и национальный долг. Потом он опять обрушился на Нихада-эфенди, обвинив учителя в том, что тот не научил ничему полезному своих учеников и даже больше того внушил им вредные идеи. И он, как директор гимназии, уже понял с, некоторых пор, что человек этот приносит вред, но все его попытки оградить учеников от вредоносного влияния, избавить школу от подстрекателя не увенчались, к сожалению, успехом.
Это уже было открытое нападение на заведующего отделом народного образования. Бедняга задыхался от негодования,— вены на его шее вздулись, вся кровь, казалось, бросилась в лицо; пальцы судорожно рвали тесный воротник, сжимавший горло.
И тут Шахин-эфенди вспомнил, что ещё несколько дней назад до него дошли слухи, будто ходжи хотят сбросить заведующего, а на его место посадить директора гимназии. Выходило, что разговоры эти оправдывались. Неджиб толкнул в бок Шахина и, словно угадав, о чем тот думает, тихонько прошептал:
— Вот пройдоха! Вот чёртов сын! На место заведующего метит...
Шахин-эфенди пробормотал себе под нос:
— О господи, ну и дела творятся! Что за порядки? Подчинённый критикует на суде своё начальство и не боится, что его выгонят в шею... Это же критика и министерства просвещения!..
— Эх ты, бедный мой, глупый ребёнок,— ответил ему Неджиб.— Ну и простачок же ты у нас... Да всех здешних чиновников и учителей снимает и назначает не министерство просвещения, а обитатели тюрбэ Сарыова. А все указания идут из гробницы султана Махмуда в Стамбуле.
После директора давали свидетельские показания учителя гимназии. Все они долго и лениво жевали какие-то бесцветные, ненужные, никому ничего не говорящие слова.