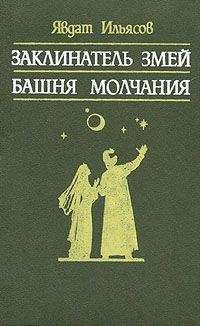Успокойся, бедный Бахтиар. Оставь. Не нужно думать о ней. Юная жена – хуже занозы. Ту можно выдернуть, эту – жалко. Не выдернешь – больно. Только и лелей ее, проклятую.
Что станет с Айханом? С обороной? С шаткой судьбой сотен людей, ждущих спасения? Все рухнет. Нет, стар Бахтиар для сумасбродств.
И все-таки…
И все-таки не просто отмахнуться от такой женщины, как Асаль.
Побыть с ней одну, всего одну-единственную ночь – и то редкое счастье, если подумать. Все равно что окунуться в родник с живой водой. Вернуть и сохранить на всю жизнь красоту и молодость.
Это не то, что сбить охоту и забыть.
Пусть потом тебя упрячут в колодец с решеткой наверху. Угонят на чужбину. Повесят. Женят на обезьяне с кривыми ногами, плоским носом и ртом до ушей. Пусть ты давно уже сед – все равно не сойдет с рук, бедер и плеч ощущение ее прикосновений. Все равно ты спокоен и горд, улыбчив, неунывающ. Подвижен, дружелюбен, доволен жизнью.
Ты знаешь тайну. Ты видел любовь.
Что же делать? Она не отстанет. Прогнать, приласкать? Мучение. Ему и на миг не запало в голову, что эта их встреча была последней. Последней в жизни. Что срок, отпущенный ему для горестей и радостей, подходит к черте.
Курбан донес – кипчаки просчитались. Не того зарезали, кого следовало. Опять неудача.
Сколько их было, этих неудач? Погиб на стене Дин-Мухамед. Убит Бейбарс – труп есаула видели, под башней. Гайнан пропал. И вновь – провал. Теперь уже с Алгу и Таянгу.
Проклятье!
Гуль-Дурсун приказала старухе Адаль разжечь заветную трубку. Пристрастилась с недавних пор. И уже не могла обойтись.
Она глотнула раз и другой ядовитого дыму. Стало чуть легче. В голове немного прояснилось.
Курбан не узнавал эмирову дочь.
Что с нею сделалось? Под глазами – нездоровая припухлость. Нос широко расплылся по лицу – попробуй, пройдись с таким по улице. Засмеют. От толстых ноздрей к уголкам синеватых губ протянулись рубцы ранних морщин.
Боже! И эта иссохшая тварь надеется обольстить юного хана татар? Сумасшествие. Впрочем, ему-то, Курбану, что до ее вожделений? Лишь бы давала есть!
Она сутулилась у окна, гадливо глядела сверху на почти безлюдную, серую от пепла, холодную крепость. В переулках, подобных трещинам в старой надгробной плите, возились хилые женщины. Детей и мужчин внизу не видать. Детей схоронили, горсть уцелевших мужчин переселилась на стены. Теперь их место – между небом и землей. Пока не поднимутся выше, в рай, или не сойдут в подземную глубь, поближе к пеклу.
Черная кость. Подумать только! Эти двуногие насекомые – скудоумные, мерзкие, грязные – смеют жужжать, кусаться, защищать ничтожную жизнь. Тоже, видишь ты, люди. Снуют, тычутся из угла в угол. Толкуют небось о делах своих мизерных, вшивых заботах. Есть хотят, пить хотят. И всех одолевает любовь.
Что они знают о ней?
Как они могут любить – с их-то пресной стыдливостью, скромностью, овечьей робостью?
Она презирала их. Уничтожать, негодных, жечь! Как нечисть, набившуюся в сухую полынь. Черви. Отребье. Мразь, не способная вспыхнуть душой хоть на одно мгновение. Существа, которых до смерти пугает собственная тень. Жалости и той они не достойны.
Что значит любить?
Сходиться открыто, жадно, по-звериному. Отдаваться на площадях, при свете ярких костров. На глазах у толпы, ревущей от похоти при виде твоих судорожных, одуряюще бесстыдных движений.
Болезнь?
Нет. Хотя и очень похоже.
Распущенность?
Да. Хотя крайность в ней и есть болезнь.
Ее не пускали к Орду-Эчену.
Ей преграждала путь крепость враждебных плеч.
И она превратилась в туго, до предела натянутый лук с дрожащей от напряжения стрелой, намертво зацепившейся за тетиву.
Ей хотелось убивать.
– Возьмись, – сказала она, не глядя, Тощему Курбану, сидевшему у порога.
– Что ты, госпожа?! – возопил трубач. – Я робкий, пугливый. Оболгать человека могу, зарезать – не осмелюсь.
– Ступай.
Она кивнула служанке:
– Собирайся. Пойдешь со мной.
– Куда? – Адаль сердилась на хозяйку. Гуль не дала ей вдосталь побыть с Алгу. Теперь – нет Алгу. Убили беднягу.
– Куда, говоришь? К Бахтиару.
Спустившись с башни, Асаль столкнулась с Тощим Курбаном. Выслеживал, что ли, негодный? Подслушивал, подсматривал? Ах, проклятый Курбан, трухлявый чурбан.
– Сволочь, – сказала Асаль. – Прочь! Убью.
Трубач услышал за спиной тяжелую мужскую поступь. Оглянулся – слава богу, не Бекнияз. Он сделал строгое лицо.
– Ты чего тут бродишь, а? Кого ищешь? Опять с Бахтиаром была? Так-то у нас берегут девичью честь? – Курбан повысил голос до крика. – Мы тут глаз не смыкаем, сражаясь с недругом. Душу свою посвятили священной войне во имя аллаха. А вы – развлекаетесь? Правоверные! Сколько можно терпеть? На ваших глазах творится гнусный разврат, а вы молчите. Бейте отступников, попирающих устои шариата! Это они колеблют небесную твердь, навлекают на крепость одну беду за другой.
…Когда человеку нечем прижать противника, он тотчас хватается за небесную твердь. И прочую высокую заумь. Что говорил пророк Муса, чему учил пророк Иса. И тому подобное. Это давно замечено. Но, странное дело, как раз пустословие и привлекает к глупцу сомневающихся.
Загалдели айханцы. Будто именно их дочерей, причем всех сразу, совратил Бахтиар. Особенно усердствовали сарты, наиболее упрямые приверженцы веры.
Правда, война нарушила их привычный уклад, люди притерпелись ко многим непотребствам, не столь рьяно совершали пятикратную молитву, сами порой топтали законы ислама. И забывали о каре небесной. Но любовную связь вне супружества (чужую, конечно, не свою – собственный грех простителен) никто б не согласился допустить и оправдать. Даже под угрозой сесть на острый кол.
Тут сквозила отнюдь не забота о нравах.
Будь так, айханцы осудили бы в первую очередь известных в городе податливых юношей и бородатых охотников до них. Нет, этих не трогали. Они – явление обычное.
Тут под личиной добропорядочности выступало нездоровое любопытство, тайное желание тоже сподобиться запретных услад. Сказывались злость, обида, зависть. Не всяких ласкают Медовые.
На расправу дерзкую тварь!
Тем более, что Асаль не очень трудно, точней – не очень опасно избить, обидеть, оскорбить. Кто ее защитит Бекнияз, Бахтиар? Их сотрут с лица земли, если дойдет до резни. Иное дело – Гуль. К ней не сунешься. Ну ее. Пусть аллах накажет своенравную.
Асаль скрылась. Борцы за чистоту нравов ринулись наверх, к Бахтиару. Он встряхнул перед ними узлом:
– Хлеб она принесла, хлеб! Тетя Мехри не смогла, на сносях. Ей надо беречься. Вот и послала Асаль! Разумеете, дурачье? Ничего между мной и Асаль нет и не может быть. Не верите мне – хлебу поверьте. Это хлеб – слышите, хамы? – а не ребенок, тайно рожденный. Эх, люди, люди! Сколько дряни вы льете друг на друга во имя чистоты… Зверье. Если б и было что между нами – вам-то что, ублюдки? Когда вы перестанете совать носы в чужую постель? Понравится тебе, пес Курбан, если я сяду ночью рядом и буду глазеть, сколько раз ты ущипнул жену? Пошли прочь! Не хочу видеть подобную мразь. И ради этих ослов я лез под стрелы татар? Больше не полезу. Подыхайте как знаете. А подохнуть вы быстро сумеете – дай волю, сразу глотки друг другу перегрызете. Вон! Кому я говорю? Перебью, подлых!
Он широко замахнулся булавой. Площадка опустела. Ушли. Оставили в покое. Но скорей устыдились, чем испугались. Или – наоборот?
Бахтиар подумал с горечью:
«Люди злей цепных кобелей, но слабей степных ковылей. Знай, гнутся то в одну, то в другую сторону».
– Успокойся, юный друг, не сердись, – с грустью сказал Три-Чудака. Они остались на башне вдвоем. – Это вовсе не плохой народ.
– Не плохой?
Вздорный!
Тупы, скупы, слепы.
Хвастливы, завистливы, точно дети. И, точно дети, упрямы, обидчивы.
Вечно меж ними споры, ссоры из-за мелочей.
Вечно у них все наоборот.
Истинной опасности не замечают, ерунду, что не стоит плевка, раздувают в страшилище всемирное. Чтят болтунов, травят лучших в своей среде.
Я думал раньше: охмуряют, бедных. Но теперь Бурхан-Султан взаперти. Кто их подзуживает? Курбан? Пустое место. Уж так они сами устроены – чуть услышат где лай, подхватывают, как свора псовая. Не разбираясь, что к чему.
Не понимаю, что путного находит в этой горластой ораве Джахур. Стадо. Скоты безмозглые.
Ну их к черту.
– И покойного Байгубека?
И Аллабергена?
И Ата-Мурада?
И самого Джахура?
И Сабура с Олегом?
Бекнияза, Хасана, Салиха?
– Нет. Те по-особому скроены. Мало таких.
– Много таких! Почти весь народ. Вот разных Тощих Курбанов, Алгу с Таянгу действительно жалкая горсть.
Ты сам не веришь тому, что говоришь, дорогой. Запальчивость в тебе клокочет. Успокойся. Не суди людей сгоряча – непременно промах совершишь.