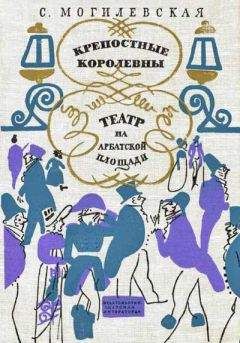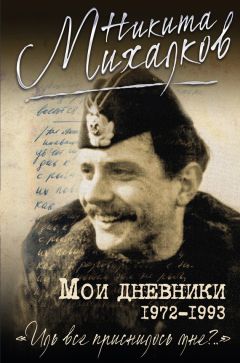Увидя проходивших мимо военных, вряд ли догадывалась она, что среди них в обгоревшей и закопченной одежде находится сам император — Наполеон Бонапарт, человек, по вине которого сейчас горела Москва. Поняла она лишь одно: эти военные — враги, погубившие Москву.
Быстрым шагом они прошли в сторону Дорогомиловской заставы, чтобы укрыться от московского пожара в загородном Петровском дворце.
Этого-то, разумеется, Саня не знала. Да и дела ей не было до французов, среди которых находился Наполеон. Она и головы не повернула им вслед. В оцепенении стояла и смотрела на выжженную пустыню…
Еще вчера под вечер она оказалась на окраине Москвы, недалеко от Тверской заставы. Но войти в город не решилась: все было Застлано густым черным дымом, все было объято пламенем. Огонь, выбиваясь из проема окон, свистя и шипя, разваливал стены и крыши домов. Даже издалека жар опалял лицо. Страшно было смотреть, как метались люди, вытаскивая из горящих домов свои пожитки. То тут, то там был свален в кучи жалкий домашний скарб. И сразу пришло в голову: а батюшка, а мачеха Степанида, а сестрицы Любаша и Марфуша? Они-то где? В Москве или уехали?
А может, сейчас горят и тоже выкидывают из избы вещи? Может, помощь им надобна?
Но когда она оказалась за селом Кудриной, возле Пресненских прудов, удивительная тишина поразила ее. Огонь сюда не перекинулся, все стояло нетронутым — и дома, и сараи, и деревья.
И здесь пахло дымом и гарью, но от прудов тянуло свежим холодком, а жители, толкаясь у ворот и околиц, лишь издали ужасались страшному пожару, который пожирал Москву.
Саня подошла к тесовому забору, который окружал ее прежний дом, хотела открыть калитку и не открыла: услыхала голос мачехи Степаниды, приглушенный до шепота. Однако слышно было каждое слово.
— Сюда, девоньки… Тут зароем! Забросаем землей, поверх листьями…
— Ой, мамынька, нельзя, тут к забору близко…
Это голос Любаши, старшей сестрицы. И тут же подголоском зашептала Марфуша:
— Под грушу, мамынька. Оно вернее. Говорю, вернее…
Саня отошла от забора. Подумала: «Эти всё о своем. Хоть дотла сгори Москва, для них все равно. Лишь бы свое сохранить в целости. А батюшка где же? Его голоса почему не слыхать? Или совсем его со света сжили?»
Эту ночь провела она в одном из брошенных сараев.
А теперь она стояла там, где прежде была Арбатская улица со всеми переулками. Еще более, нежели зрелище самого пожара, ее потрясло это выгоревшее, пахнувшее смрадом и дымом пространство. Лишь церковь Николы Явленного, куда они с дедушкой ходили по воскресным дням, стояла опаленная, покрытая сажей, но стояла… Какие-то люди (не свои, не русские, а чужие, враги, французы) суетились, вытаскивая на паперть иконы и дорогую церковную утварь. И радовались серебру и драгоценностям, которыми удалось овладеть…
Еле волоча ноги, Саня побрела в ту сторону, где должна была находиться Арбатская площадь. Она все еще надеялась, вопреки всему надеялась, что среди пожарища по-прежнему стоит любимый ею театр. Заколдованный от огня, недоступный огню, стоит красивый, величавый, окруженный белыми колоннами… И когда она увидела лишь пустырь на том месте, где должен был находиться театр, лишь пустырь, покрытый золой и пеплом, она повалилась на землю и заплакала. Мерещилось ей в ту минуту, что, останься она здесь, уберегла бы вместе с дедушкой Акимычем и стены, и колонны, и весь театр от страшного московского пожара.
Захлебываясь слезами, она шептала:
— Дедушка, дедушка, зачем вы услали меня? Зачем, глупая, я уехала? Дедушка, дедушка…
О гибели Степана Акимыча она еще ничего не знала. Но с гибелью театра казалось ей, что потеряла она все, что было в этот последний год смыслом и радостью ее жизни…
И вдруг среди пепла, еще теплого, почти горячего, что-то сверкнуло. Это была хрустальная подвеска от большой люстры зрительного зала, последнее и единственное, что осталось от прежнего великолепия театра. Каким-то чудом уцелев, она сияла Сане радужно, весело, переливаясь всеми своими хрустальными гранями…
Глава последняя
Которая является эпилогом
С тех страшных дней прошло не мало лет.
В один из февральских дней молодой купец из Москвы Федор Иванович Титов проездом из Архангельска, где он вершил дела своего богатого тестя, оказался в небольшом губернском городе. Буран загнал его сюда, и он томился здесь вторые сутки. И сейчас, сидя в трактире и глядя, как за окнами крутыми воронками завивается снег, он зевал и злился. Ему казалось, что непогода задержит его тут надолго. А скука заедала, да и торговые дела, ради которых он был в Архангельске, того не позволяли. Надо было скорее ехать в Москву.
Он смотрел в окно. А за окном крутила, вертела метель.
— Сходили бы, сударь, в театр, — посоветовал трактирный слуга, убирая с его стола послеобеденную посуду. — Ныне-с как раз представление…
Федор Иванович зевнул:
— Как, и театр имеется в здешнем городе?
Слуга вроде бы даже обиделся:
— А как же-с. Весьма даже имеется!
— И хорош?
— Люди ходят. А в нынешнюю зиму и вовсе отбою нет-с…
Федор Иванович снова зевнул. Подумал: спать, что ли, завалиться? Самое разлюбезное дело при этаких обстоятельствах. Однако же, поднявшись из-за стола, осведомился:
— А ныне-то по какому такому случаю народ зачастил?
— А потому, сударь мой, что в нашем театре на всю эту зиму некая актерка из Санкт-Петербурга подрядилась представлять трагедии и комедии…
Федор Иванович прислушался. С молодых лет был он большим театралом и частым посетителем московских театров. А трактирный слуга продолжал:
— Сам не видал-с, а люди сказывают: красоты сия актерка неописуемой… К тому же и молода! А гордости еще того больше. Всех отвергает-с… Еще ни единого подношения не приняла. Даже самому господину Пряхину кошелек обратно кинула. Вот какова-с… А говорят, в том кошельке золотых червонцев было чуть ли не на тысячу.
И получилось так, что вьюжным февральским вечером Федор Иванович отправился взглянуть на петербургскую актерку, которая в ту зиму играла на подмостках здешнего театра и, по словам слуги, сводила с ума всех жителей города.
В тот вечер давали трагедию Озерова «Эдип в Афинах», пьесу, хорошо знакомую Федору Ивановичу. «Что ж, — подумал он, — коли будет очень плохо, уйду со второго акта. Кто станет меня неволить смотреть до конца?»
Подойдя к театру, он сразу понял, что здание строилось силами доморощенными и рука настоящего архитектора его не касалась. И внутри все было без особых затей: по обе стороны зрительного зала располагались ложи, над ними раек. Перед креслами партера в несколько рядов стояли простые скамейки. Сей порядок, несходный с прочими театрами, сперва удивил Федора. Но, поразмыслив, нашел он разумную причину: сцена освещалась плошками с салом, а потому чем далее в глубину зала, тем менее страдало обоняние от смрадного духа. У самого же Федора Ивановича Титова по совету кассира билет был взят в кресло третьего ряда.
Заняв свое место, он огляделся. В занавесе зияли две изрядного размера дыры. В них то и дело показывались чьи-нибудь глаза, иной раз с носом и даже пальцами. Оттуда, со сцены, интересовались: много ли народу в зале, не пора ли начинать спектакль?
Возле самой сцены, сбоку, виднелась почерневшая от копоти дверка, ведущая за кулисы.
Вскорости занавес поднялся, и спектакль начался. Федору Ивановичу все здесь было не по нутру: и плохая игра актеров, и бедные декорации, и неважные костюмы. Он ушел бы, не досмотрев, да любопытство держало: решил дождаться второго акта, глянуть на петербургскую диву, о которой в трактире толковал слуга.
И вот началось второе действие.
Едва Антигона в длинных белых одеждах вышла из-за кулис со своим слепым отцом Эдипом едва произнесла первую реплику, мурашки побежали у Федора по спине.
О господи… Неужто? Саня? Быть не может! Почудилось ему… Здесь, в этом заштатном городке? Нет, нет, это лишь игра его воображения. Надо же придумать, чтобы та девочка стала актрисой!
Но чем далее он смотрел, тем убежденнее становился, что видит он Саню. Да, да, ту самую Саню, которую однажды привел в театр, а потом полюбил.
Повернулся к соседу. Спросил фамилию актрисы. Тот ответил. Однако фамилия ничего ему не подсказала. Впрочем, знал ли он в те далекие годы Санину фамилию? Вряд ли…
Но вот Антигона, положив на плечи слепого отца своего руки, произнесла мягко и проникновенно тем Саниным голосом, который он столько раз слышал:
— Я не страшусь терпеть презренну нищету:
С отцом пещеры мрак чертогу предпочту;
Всем бедствам за него охотно подвергаюсь.
И последние сомнения оставили Федора. Это была Саня.
Все всколыхнулось в его памяти. Будто не годы, а лишь немногие дни отделяли его от того часа, когда увидел он девочку в алом платке, которая поправилась ему с первого взгляда. И потащил он ее в Арбатский театр, в раек… Вот ведь случай какой! Ведь смотрели они как раз озеровскую трагедию «Эдип в Афинах»….