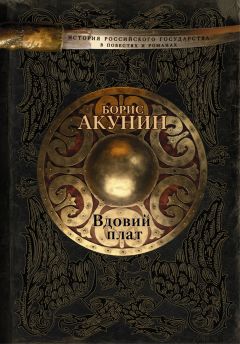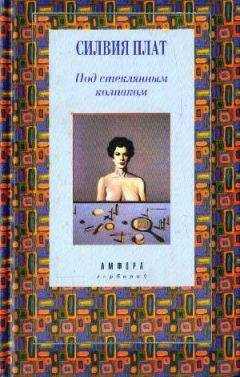Сколько лет с тех пор прошло, сколько всего переменилось, но по-прежнему я – один, вознесен надо всеми, и мне нельзя никому показывать свою слабость.
– Скажи, Лукьяныч, а каково это – быть обычным человеком? Не государем? – спрашиваю я у Малюты и с любопытством жду ответа.
Он не может взять в толк, чего я хочу. Крутит косматой башкой – шапка, как всегда, засунута за кушак, ворот нараспашку. Малюта не любит, когда что-нибудь сдавливает голову или шею, а холодно ему, медведюге, не бывает.
– Ну, каково это – быть одним из малых? Из тех, кого тьма-тьмущая? – допытываюсь я. – Вот родился ты, Гришка Скуратов-Бельский прозвищем Малюта, и сызмальства знаешь, что над тобою много людей высших и бо́льших, кто знатнее, сильнее, богаче? Не обидно тебе живется?
Задумывается и отвечает не сразу.
– Нисколько не обидно, и я бы с тобой, Иван Васильевич, ни за что не поменялся бы. Вот сколько ты себя помнишь, ты всегда был государь, так?
Киваю.
– …И куда тебе было подниматься? Некуда. Какую мечту мечтать? Никакую. Выше тебя только Бог, до него все одно не докарабкаешься. А мне, Гришке Скуратову, было чего желать, было куда карабкаться и ныне, когда вскарабкался, есть чем погордиться. Я мог подняться, мог и упасть. А ты можешь только упасть.
– Ты что несешь, пес? – не впервые изумляюсь я Малютиной отчаянности.
Он лишь весело скалит острые зубы.
– Не бойсь. Для того я и с тобой, чтоб ты не падал. А кто на тебя помыслит худое – вот этими песьими клыками разорву. Ты меня знаешь.
Много стал о себе понимать, думаю я, отворачиваясь. Все повторяется. Истинно рек Еклесиаст, царь Израильский: «Что было, тожде есть, то же будет». Даже наилучшие, наивернейшие слуги хороши до поры до времени, а потом перезревают, портятся и приходится их перебирать, как запревшие злаки.
Самые ценные помощники получаются либо из тех, кто меня до цепенящей судороги страшится, либо из тех, в ком страха нет вовсе. Вторые драгоценней, ибо очень редки, но беда в том, что они-то обычно и портятся. Начинают мыслить себя незаменимыми, льститься уверенностью, что я без них как без рук. И тогда, хоть бывает жалко, приходится сей загнивший член отсекать.
Так было с Адашевым, умнейшим, но и гордейшим из столпов моей младости. Мало ему показалось служить мне десницею, возжелал стать и моею головою, а я, по молодости и неопытности, слишком долго то своевольство терпел.
С Басмановыми, отцом и сыном, вышло интереснее. Один был бесстрашен, другой – боязлив, на том близ меня и держались. Алексей – храбрец, безо всякого предо мной трепета, а Федька – будто лоза гибкая, дрожащая. Возьмешь его шутейно за горло – обмирает, будто девка, розовые щечки становятся белы, зраки в синих глаза черны.
Когда я велел обоих взять в застенок, людишки чего только не повыдумывали. Кто говорил, что я караю Басмановых за польскую измену, кто говорил – за крымскую, а третьи – будто за злодейское на мою особу умышление. На самом же деле это я побился с Малютой об заклад: кто кого зарежет, чтобы спастись – Алексей сына, или Федор отца? Я поставил свой индийский алмазный перстень на трусливого Федьку, Лукьяныч – половину своих поместий на бесстрашного Алексея. Думал, дурак, что обогатится.
Поначалу я собирался Басмановых только попугать. Поставил их перед собою. Положил на стол нож. Говорю сначала Алексею: «Желаю испытать твою мне верность, яко Господь испытывал верность Авраамову. Возьми сына своего Исаака и принеси во всесожжение. Зарежь Федьку на моих глазах, и впредь будешь первым при мне помощником. Над всей державой тебя поставлю». А Федьке никаких наград сулить не стал. Сказал просто: «Хочешь жизнь свою спасти – зарежь отца. Не то готовься к лютой, жестокой казни».
И махнул рукой, чтобы обоих одновременно развязали.
Федор сразу к ножу кинулся. Алексей же только поглядел на меня, да скривился. «Поганый ты, – сказал. – И служить тебе погано. Лучше сдохнуть».
Если б он промолчал, я бы Федьку остановил, а тут обидно стало. И зарезал Федька отца, за что потом и понес должную муку, ибо нельзя это: сыну на родителя руку поднимать.
Я же, отойдя от обиды на Алексееву неблагодарность, много над Малютой смеялся: кто-де лучше человечью породу знает? За науку отписываю с тебя половину твоих деревенек. А он мне: «Ты, может, и умней, да и я не внакладе. Теперь, без Басмановых, я близ тебя первый буду». Вот он какой, Малюта – дерзкий.
Беспременно надо, чтобы рядом был раб прехрабрый, кто служит не за страх. Однако нельзя и забывать, что такой слуга подобен прирученному медведю. Однажды может встать на дыбы и ощерить пасть.
Я кошусь на Малюту, а ему нипочем – ухмыляется.
– Что глазами жжешь, Иван Васильевич? Или зарезать меня хочешь, как Федорца зарезал?
Подъезжает вплотную, подставляет открытое горло:
– На, режь. Не жалко.
Натягиваю поводья. Останавливает своего коня и Лукьяныч.
Мне любопытно:
– Ты что же, вовсе не боишься смерти?
– А чего мне ее бояться? – Он беззаботно дергает широченным плечом. – Иль ты мало смертей повидал? Пока терзаешь человека, он орет, корчится. А как испустит дух – успокаивается, делается благ и тих. Знать, ему там лучше, чем здесь.
– И муки не боишься? – спрашиваю я. – Вот если тебя медленным огнем жечь?
Малюта достает из поясного кошеля кресало, разжигает трут. Прикладывает тлеющий конец к своей ладони. Остро пахнет жженым мясом, а Малюта знай улыбается и глядит мне в глаза.
– Брось! Вонько!
Вырываю трут.
Я всегда это знал: я один из всех человеков чувствую боль по-настоящему. Такое мне испытание от Господа. Прочие на пытке и визжат, и бабьим голосом орут, а все притворство. Им бы, как мне, один денек головной болезнью помаяться…
Вот Малюта жжет себя – и не прикидывается, что больно. Тем и ценен, что честен. Пусть поживет пока.
– Обмотай тряпицей, а после покажись немцу Елисею, – говорю я заботливо. – Не то рука загниет, а она мне нужна. Ладно, едем.
Вот они уже – врата моей мирной обители, спасительного моего Острова. Сами распахиваются навстречу.
О тихом острове меж бурных вод
И за ними открывается широкий двор, залитый багряно-желтым от многая огней сиянием.
Таким же ослепительным озарением явилась ко мне некогда мысль: ради спасения бессмертной души и бренной плоти укрыться от людской злобы и вражьих происков, от московских сонмищ и греховной суеты в некоем тихом месте. А перед тем, ночью, было мне сонное видение.
Будто я – утлый челн средь бурных вод, уязвительный от острых скал, от морских чудищ, от неистовых бурь, и погибель моя неизбежна, но на краю моря-океана разливается утешительный свет, и править надо туда, ибо там Остров, где я обрету успокоение.
Все утро я ломал голову над загадочным сном, а потом вдруг разверзлись очи, и я понял!
Успокоение – там, где покойно. А покойно мне было только в раннем детстве, когда бывал с матушкой вдали от темных и тесных кремлевских переходов, на приволье Александровской слободы. Там еще батюшкой поставлен легкий и веселый летний дворец, а близ него три чудесных храма, где так умилительно возносилась детская невинная душа во время служб и молебствий. Там, там, в Слободе обрету я утраченный рай!
Вот как обустроился мой тихий остров меж бурных вод – то последнее виталище, о коем тосковал пророк Иеремия: «Кто даст мне в пустыне виталище последнее, и оставлю люди моя, и отъиду от них, понеже все любодействуют, соборище преступников».
В нетерпении велел я поскорей окружить Слободу стенами. Триста мужиков работали день и ночь. Ради скорости клали не сплошной камень, а ставили деревянные срубы, засыпали землей, а камнем обложили только снаружи, в один слой. Со стороны поглядеть – грозно, а что внутри прах, о том никто не ведает. Мужиков всех потопили в прудах, чтоб не болтали, и за то окаянство молил я у Господа прощения три слезные ночи, а на четвертую был прощен, ибо не зверства для, не глупой прихотью сгубил триста душ, а ради государственной пользы. Пусть враги страшатся моей твердыни. Все равно истинная ее крепость не в стенах, а в Божием благословении.
Моя слобода поставлена по завету Иезекиилеву, в подобие Граду Господню. Как и там, у меня трое ворот. Северные, мощью подобные Сцилле и Харибде, – для чужих людей: земских бояр и иноземных послов. Южные – повседневные, для своих, опричных и слуг. Восточные всегда заперты, они – для Господня Пришествия, ибо сказано: «Сия врата заключенна будут не отверзнутся, и никто же пройдет ими, яко Господь Бог Израилев внидет ими». А на закате ворот нет вовсе, ибо в великий невечерний день, когда приидет Господь, солнце не угаснет, и заката не будет.