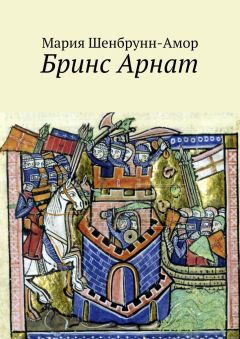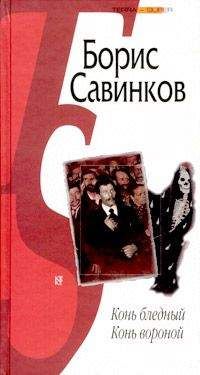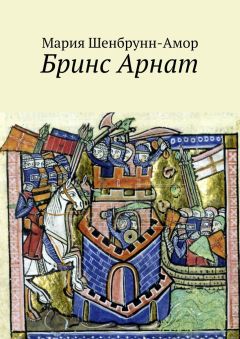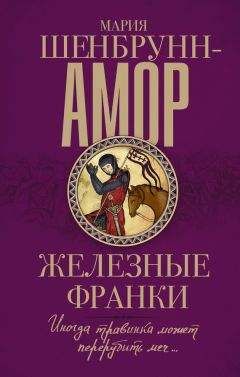Удар был тяжким. Бодуэн со знатнейшими баронами явились к Мануилу, убеждали, молили Его Царственность не упускать невозвратимую возможность затоптать змеиное гнездо, покончить с джихадом навеки. Но Комнин, воочию узрев Алеппо, понял, что осаждать этот город его армии пришлось бы месяцами. И ради чего? Зангиды действительно не представляли опасности для Ромейской империи, наоборот, они соперничали с ее врагами – конийскими сельджуками – и тем самым держали их в узде. А Нуреддин тут же посулил василевсу двинуться со всем своим аскаром против главного из конийцев – анатолийского султана Кылыч-Арслана. Поэтому император не видел резонов тратить время, деньги и силы на обуздание сирийских басурман:
– Нуреддин тяжко болен, он больше не опасен Святой Земле. А Антиохию я особо взял под свою защиту, исмаилитяне не посмеют нападать на вассальный мне город.
Бодуэн продолжал стоять, понурившись, и такое горькое разочарование и упрек читались в его глазах, что василевс пожевал темными губами, перекрестился и добавил:
– Нуреддин грозится казнить всех этих узников, если я не договорюсь с ним. Когда я предстану перед своим судией, что я ему скажу? Что предпочел войну спасению шести тысяч христианских душ? Большинство из них – ваши единоверцы и соратники.
Король только зубами скрипнул. Большинство пленников – ненадобные франкам германцы, гниющие в алеппских застенках уже десяток лет, со времен неудачного крестового похода Конрада. Никто из них в Палестине ни на единый день не задержится.
Рейнальд, который ради мира с ромеями в ногах у императора валялся, больше других негодовал на предательство Мануила. Как близки они были к тому, чтобы захватить вражескую опору, ворваться в ворота недоступной твердыни, промчаться с триумфом по узким улочкам, разграбить сокровища, разорить мечети, овладеть недосягаемой цитаделью! А теперь кто знает, как и когда это случится?!
Не удержался, сверкнул наглыми глазами из-под темных бровей:
– В день суда Ваша Царственность скажет Всевышнему, что Святая Земля и Гроб Господень стоили шести тысяч воинов, которым Господь давно велел за себя сражаться и погибнуть во имя Свое.
Мануил взглянул на него холодно:
– Я уже убедился, князь, что для вас у человеческой жизни нет никакой ценности, будь то кипрский крестьянин или великий врачеватель, – завершая аудиенцию, добавил в утешение убитому разочарованием Бодуэну: – Вы, франки, так могущественны, что вашему королевству ничто не угрожает. И Гроб Господень и все прочие Святые места в полнейшей безопасности.
Напрасны оказались все унижения, уступки и мольбы. Латиняне были готовы признать Багрянородного своим главой, своей надеждой и опорой, а он предпочел несомненной общей победе вечную хитрость ромеев – властвовать, разделяя. Византия вновь избрала излюбленную политику равновесия в ущерб общей борьбе всех христиан с сарацинами. Осталась арбитром, способным склонять чашу весов в угодную ей сторону, держа попеременно руку то Запада, то Востока, и тем самым определяя ход событий в Леванте. Друг, родственник, главный союзник и покровитель франков Мануил Комнин предал родство, нарушил дружбу, попрал доверие, забыл общность веры в Спасителя, пренебрег долгом сюзерена перед вассалами, разорвал союз с верными союзниками и бросил латинян несолоно хлебавши на пороге окончательного триумфа.
Помимо германцев – ходячих скелетов, поспешивших обратно в Европу, получили свободу и триста рыцарей, плененные два года назад у брода Дочерей Иакова, среди них королевский маршал Одо де Сент-Аман, а так же великий Магистр тамплиеров Бертран де Бланшфор и восемьдесят семь братьев ордена. Для храмовников договор Мануила с Нуреддином явился нежданным и единственным спасением, ибо тамплиер не мог дать за себя никакого выкупа, помимо собственного оружия и пояса.
Среди доживших до воли оказался и Бертран Тулузский – склочный бастард покойного Альфонсо-Иордана, который после неожиданной смерти папаши пытался захватить триполийские владения. Сломленный десятью годами заточения Бертран больше ни на что в Утремере не претендовал и никаких земель на Латинском Востоке не требовал. Вместе с ним Нуреддин пленил и его сестру, но среди освобожденных бедняжки не оказалось. Шли слухи, что несчастная вышла замуж за Нуреддина и родила атабеку наследника – Исмаила ас-Салиха. Люди ужасались участи благородной дамы, замурованной в басурманском гареме, но Констанция, напротив, порадовалась за нее – слишком короток женский век, чтобы десять лет из него провести в подземелье.
Довольный Мануил вернулся на Босфор. Византия продолжала цвести, как цветет куст, под корнями которого так и не истребили хорька. Рано или поздно хорек перегрызет корни куста.
* * *
Тем же летом, за три дня до сентябрьских календ василевс овдовел. Этот нежданный поворот Фортуны возродил много надежд.
Поскольку Берта-Ирина родила лишь дочь, нужда Комнина в сыне-наследнике была настоятельной, и вскорости в Иерусалим прибыли приближенные Его Царственности: брат византийского военачальника Иоанн Контостефанос, главный драгоман константинопольского двора, италиец Феофилакт, а также свойственник автократора Василий Каматерос, глава его личной варяжской стражи. Почетное посольство просило у короля Бодуэна, сердечного друга и близкого родича Равноапостольного, беспристрастного совета в выборе достойнейшей среди знатных дев Заморья, дабы Багрянородному сочетаться с оной браком и укрепить пошатнувшийся союз ромейской империи с Заморьем.
Подходящих для византийского престола дев на всем Латинском Востоке было две – Мария Маргарита-Констанция Антиохийская, дочь Констанции, и Мелисенда Триполийская, дочь Годиэрны. По всем статьям Мария свою соперницу превосходила – и красотой, и знатностью, и главенством Антиохии перед Триполи. Именно ей подобало стать матерью будущего императора Ромейской империи. Мало того, подобное родство обезопасило бы Антиохию навеки.
Да только король пекся вовсе не об интересах своей кузины Констанции или о благе друга и родича Мануила Комнина, а о том, чтобы Антиохия не попала окончательно под влияние Византии. Коварный суверен, неверный родич и лживый друг, он надоумил вверившегося ему василевса предпочесть пышной лилии неприглядный лютик.
Будущей василиссе принялись по всему Утремеру собирать невиданно роскошное приданое, а обойденная Мария превратила жизнь в антиохийском замке в кромешный ад. Со смерти Грануш Констанция редко покидала свою опочивальню, но Мария настигала ее и там, врывалась вихрем, вываливала обиду:
– Мадам, ее уже в королевских приказах именуют «будущая императрица Константинополя»! Князь должен что-то предпринять!
– Не вздумай приставать с этим к князю! Только этого не хватало. Он уже и так столько всего предпринял, что ему на глазах у всех пришлось землю есть, лишь бы Мануил простил его.
Мария замерла, пораженная догадкой:
– Так вот почему император обошел меня! Чтобы не родниться с вашим бешеным Шатильоном!
Констанция отсчитывала капли имбирного эликсира в хвойный напиток. Ибрагима больше не было, Грануш лежала в сырой земле, даже Арам куда-то запропастился, а Филиппа кашляет и Агнессу по вечерам лихорадит. Мария покрутилась по комнате, не дождавшись ответа, воскликнула:
– Мадам, я вижу, вам все равно, что со мной случится!
– Да что с тобой может случиться, дочь моя? Найдется жених и для тебя. На Мануиле свет клином не сошелся.
– Но я хочу именно василевса! Вы, мадам, вышли замуж за кого хотели, почему же я должна отдать императора этой выскочке Мелисенде?
У Констанции давно не осталось ни сил, ни желания кого-либо утихомиривать:
– Потому что я была правящей властительницей княжества и могла сама выбирать супруга, а ты должна ждать, чтобы выбрали тебя, вот почему. Хоть ты и считаешь себя пенорожденной Афродитой, но своего у тебя – три простыни и две скатерти, Мария.
– Мадам, имея такой выбор, вы должны были выбрать лучше! Теперь из-за этого шального ничтожества я лишилась возможности стать императрицей!
– Десять… Одиннадцать… Двенадцать… – Констанция заткнула горлышко кувшинчика мягким воском, аккуратно вытерла руки. – Может, пойдешь и самому шальному ничтожеству в лицо заявишь, что это он у тебя империю украл?
Мария смутилась, но тут же нашлась:
– Это не он украл. Это всё эта серая моль Мелисенда! Я же помню, как василевс на турнире пожирал меня глазами!
– Мария, лучше молчи об этом, если не хочешь до пострига допрыгаться. Мануил в то время женат был! Тебе не добавляет чести, что ты сама тогда чуть не на колени к нему садилась!
Мария побледнела, раскрыла рот, но не смогла выдавить из себя ни звука, только бессильно ловила воздух губами. Констанция сразу пожалела о суровых словах, вскочила, перевернув целебную настойку, обняла дочь. Ах, Мария, прости, прости, душа моя! Так уж мы, женщины, устроены, что за любую собственную жестокость и измену нас мучает меньший стыд, чем за неудавшуюся попытку завлечь мужчину!